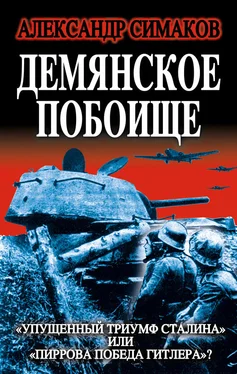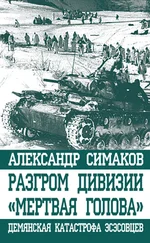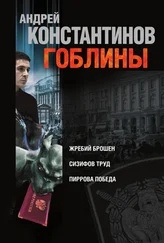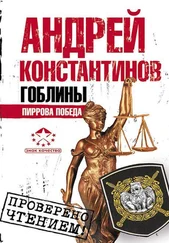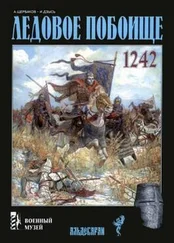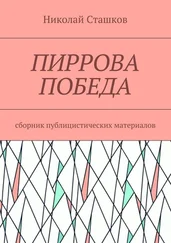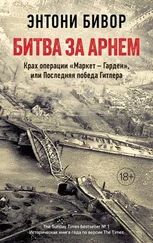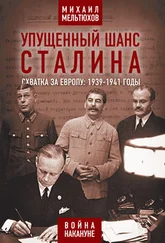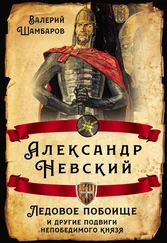Чтобы облегчить положение, необходимо было срочно соединить Северную и Октябрьскую железные дороги. Для этого надо было построить соединительную 50-километровую железнодорожную линию Чагода – Кабожа. Воины-железнодорожники совершили подвиг: дорога была сдана в эксплуатацию через три недели после начала строительства.
Остальные дороги, ведущие к войскам, были грунтовые. Распутица при оттепели делала их непроходимыми. Подвоз то и дело нарушался. На складах армий почти не было бензина, а в баках машин его оставалось меньше ползаправки. Задержка с сосредоточением войск вынудила перенести срок наступления для 11-й армии на 7 января, а для остальных армий на 9 января.
В большинстве своем войска прибывали слабо вооруженные, а иногда и совсем без оружия – оно поступало отдельно. К тому же соединения и части, сформированные в спешном порядке, были плохо обучены и не сколочены, что отрицательно сказывалось на результатах боевых действий. Поэтому к ведению наступательной операции войска фронта оказались недостаточно подготовленными.
Это касалось не только войск Северо-Западного фронта и не только начальных месяцев войны. 26 октября 1942 г. командующий фронтом генерал-лейтенант Рокоссовский в штабе 66-й армии заявил: «…Прибывшие новые дивизии к бою совершенно не подготовлены. Сегодня буду докладывать тов. Сталину, просить его, чтобы личный состав вновь формируемых дивизий хотя бы месяц проходил боевую подготовку…»
А вот что вспоминает бывший начальник разведки 312-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии И. Бескин: «Рота автоматчиков, которая должна была идти первой в атаку при наступлении полка, оказалась пополненной необстрелянными солдатами, только накануне прибывшими из Средней Азии, из Казахстана. А счет времени до наступления уже шел на часы. По неписаной традиции всем выдали чистое белье. Новичков только смогли расписать по взводам, отделениям, составить списки, назначить командиров.
Едва успели проглотить усиленный перед наступлением обед, командир роты собрал солдат для знакомства с немецким оружием, которое они видели впервые. Показал, как пользоваться немецкими гранатами, у которых в отличие от наших нет щелчка при боевом взводе. Через всю длинную рукоятку в гранате проходит толстый шнур с этакой пуговкой снаружи и зажигательной смесью внутри. И если потянуть шнур, то внутри воспламеняется состав и через четыре секунды граната взрывается. После занятия солдаты собрались в кружок, рассматривая разнообразное оружие, и, естественно, кто-то потянул за шнур гранаты. Взрыв разметал толпу, ранив, контузив людей. Уцелевшие в страхе разбежались, рота была деморализована».
Далеко не благополучно решался вопрос учета потерь без вести пропавших. Об этом говорит приказ НКО от 12 апреля 1942 г.: «…Учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительно убитых.
Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истинных. Все это говорит за то, что со стороны штабов армий и фронтов не установлено должного контроля за учетом и представлением указанных сведений».
По воспоминаниям участников тех боев, прибывающее пополнение в списки зачастую не заносилось. Большая часть рядового состава не имела красноармейских книжек, а выданные бойцам не учитывались.
Вот отрывок из письма бывшего начальника штаба 1317-го полка 202-й стрелковой дивизии подполковника А.П. Шувалова от 16.07.1974 г., направленное брату С.Г. Штыкова Виктору: «…я работал начальником 4-го отделения штаба дивизии с марта по август 1942 года. Учет потерь личного состава был запущен, списки о потерях в вышестоящие штабы не представлялись. На мою долю досталось привести в порядок учет потерь с первого дня войны и до дня вступления в должность. К июню месяцу я наладил образцовый учет по личному составу и за это приказом командующего 11-й армии генерала Морозова я был награжден часами. Когда я приходил подписывать списки безвозвратных потерь, то Серафим Григорьевич страшно переживал, что дивизия несет такие потери в личном составе. С начала войны и к июлю 1942 года через дивизию прошло 42 тысячи человек».
Широко известный образец «смертного медальона» был введен приказом НКО № 138 от 15 марта 1941 г. Он представлял собой бакелитовый или эбонитовый пенал небольшого размера черного цвета шестигранной формы с завинчивающейся крышкой. Внутрь вкладывались два листка бумаги, свернутые в трубочку. На этих листках военнослужащий должен был записать свои личные данные и адрес родственников. В случае гибели военнослужащего на поле боя перед погребением один экземпляр остается в медальоне при покойном, а второй будет сдан в штаб части.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу