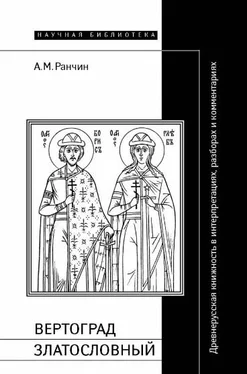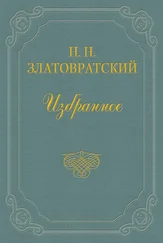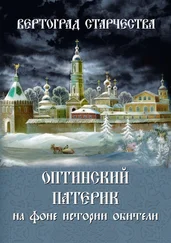По толкованию А. А. Зимина, «[с]ам путь „в тропу Трояню чресь поля на горы“ соответствует пути с Украины на Карпаты» [Зимин 2006. С. 318].
[Балдур 1959]. О символике Дуная в славянской народной культуре см., в частности: [Соколова 1993. С. 41].
Перечень работ и обзор гипотез о болгарском происхождении Бонна см. в статье: [Никитин 1992].
[Клейн 1996]. Еще А. В. Лонгинов понимал «седьмой век Троянь» как выражение с эсхатологической семантикой: это XI в. на Руси, время первого появления половцев и отмеченного Повестью временных лет солнечного затмения; исследователь связывал «седьмой век» с седьмым тысячелетием в эсхатологическом апокрифе Откровение Мефодия Патарского. См.: [Лонгинов 1911. С. 35–36]. Ср.: «Принимая за положение бесспорное, что число семь имеет в народной поэзии иногда значение эпическое, я подозреваю весьма искусное и вполне подобающее солнечному потомку Трояну сплетение певцом года первого опустошительного набега на Русь, когда Мономах был семилеткой, с тем седьмым тысячелетним веком (в апокрифическом Слове Мефодия Патарского), к которому приурочивается нашествие Агарян, разорение ими разных стран и ужасное положение побежденных, после чего идет рассказ о нарождении антихриста» [Лонгинов 1892. С. 124–125]. Слово «век» в выражении «на седьмомъ веце Трояни» А. В. Лонгинов трактует, приводя и другие примеры из Слова, как «годы», «возраст», но не «столетие», указывая как параллель польское «wiek». Выражение «были вечи Трояни, — минули лета Ярославля» он понимает как сообщение о смене эпохи Ярослава Мудрого (ум. в. 1054 г.) эпохой Мономаха-Трояна (р. в 1053 г.). См.: [Лонгинов 1892. С. 117].
Д. Н. Дубенский, считавший Трояна Владимиром I, полагал, что «седьмой век» это 7, умноженное на 7, то есть 49; 49 лет прошло со Владимира I до 1064 г., — времени Всеслава Полоцкого (см.: [Слово 1844. С. 186–187, примеч. 174].
[Косоруков 1986. С. 44–50, 126]; [Косоруков 1992. С. 167–171, 225].
Ср., например, характеристику правления Владимира I и его сына Ярослава в кн.: [Пресняков 1993. С. 30–34].
Ср. общее свойство «преодолевать время» у «Велесова внука» Бояна, уподобленного соловью, у Игоря, вырвавшегося из плена — «смерти» (он оборачивается волком, горностаем и птицами и возвращает Руси прошлую радость) и, возможно, у князя-чародея Всеслава.
Об особой отмеченности категории «начала» в Слове и в летописях см.: [Лотман 1992б. С. 231–232].
Ср. об идеализации прошлого в эпосе: «Для эпического мировоззрения „начало“, „первый“, „зачинатель“, „предок“, „бывший раньше“ и т. п. — не чисто временные, а ценностно-временные категории, это — ценностно-временная превосходная степень, которая реализуется как в отношении людей, так и в отношении всех вешей и явлений эпического мира: в этом прошлом все хорошо, и все существенно хорошее („первое“) — только в этом времени» [Бахтин 1975. С. 458].
Битва Игоря с половцами приобретает в Слове тотальное значение и по существу описывается уже в самом начале, когда Игорь видит своих воинов как бы прикрытыми тьмой (то есть убитыми). В этой связи реплика князя «Луцежъ бы потяту быти, неже полонену быти…» (с. 5), произнесенная в момент затмения и кажущаяся Б. А. Рыбакову контекстуально не мотивированной и поэтому трактуемая им как укор автора самонадеянному князю [Рыбаков 1991. С. 68–69], напротив, представляется очень уместной: именно в этом фрагменте затмение — и есть битва, Игорь произносит слова, обыкновенно изрекаемые перед самым началом сражения.
Немотивированной эту реплику князя Игоря считает и А. А. Зимин: «Ведь князь сам решил начать поход против половцев, и не о плене ему, казалось, надо бы думать. Мало того, Игорь призвал воинов лучше погибнуть, чем попасть в плен, а потом как он сам, так и многие его воины оказались в плену. <���…>
Призывы, обращенные к воиным, хорошо известны литературе разных времен. Но никогда они не вступают в разительное противоречие с поведением героя» [Зимин 2006. С. 109–110].
А. А. Зимин показывает, что соответствующие слова органичнее и логичнее выглядят в Задонщине (в Пространной редакции они обращены Пересветом, действительно, согласно тексту памятника, павшим на поле брани, к князю Дмитрия Ивановичу). Для исследователя это место — одно из доказательств первичности Задонщины по отношению к Слову о полку Игореве. Действительно, это весьма сильный аргумент в концепции А. А. Зимина. Однако он не отрицает (правда, чисто теоретически) и иного объяснения, близкого рыбаковскому: «Резкое несоответствие слов Игоря результатам его похода могло быть продиктовано стремлением автора показать легкомыслие князя. Однако весь тон оценки ратного подвига князя противоречит этому допущению» [Зимин 2006. С. 110]. Но на самом деле отношение к Игорю хотя (вопреки мнению Б. А. Рыбакова) и не имеет ничего общего с сарказмом, отнюдь не является однозначно восторженным и панегирическим. Оно неоднозначно и отчетливо не сформулировано (кстати, именно этим — особенной сложностью оценки героя — Слово о полку Игореве разительно отличается от памятников древнерусской книжности).
Читать дальше