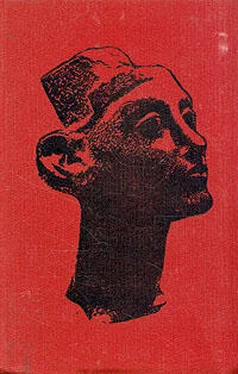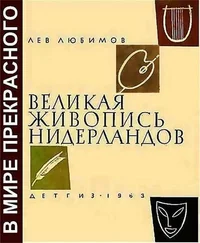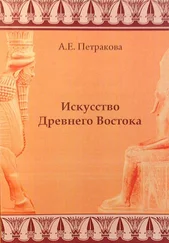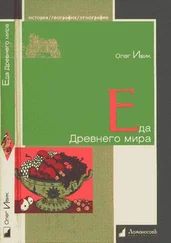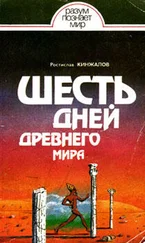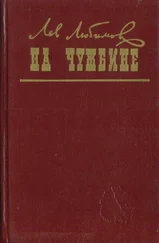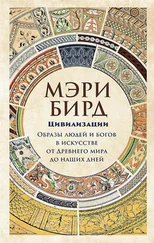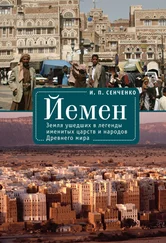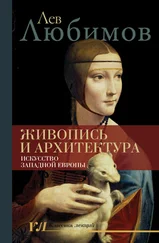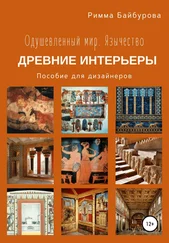Скифы-кочевники жили в кибитках. Конина и кобылье молоко были их главной пищей. Конь и бранные потехи определяли их быт. Почитали бога войны, символом которого был меч'. Обильно проливали кровь в постоянной борьбе за скот и за пастбища. Подвижная конница скифов была неуловима, и они осыпали тучами стрел противника. Во главе отдельных племен стояли вожди: то был строй, который Энгельс называет «военной демократией». Когда вождь умирал, умерщвляли его жен, оруженосцев, виночерпиев и боевых коней и хоронили их вместе с ним.
В своих набегах скифы доходили до Египта, разрушали крепости и города, победно отражали вражеские нашествия, и даже закаленное и хорошо организованное персидское войско терпело от них поражения.

Огромные табуны лошадей и стада рогатого скота были основным богатством скифов. Но скотоводство они сочетали с охотой. Зверь — опять-таки зверь — главный их соперник в мире. Зверь, часто чудовище, созданное их воображением, представлялся им выразителем таинственных и могучих сил.
На какие же земли распространялась скифская культура? Можно сказать так: это культура огромного мира, преимущественно кочевых и полукочевых племен, живших в I тысячелетии до н. э. в Северном Причерноморье, на Кубани, на Алтае и в Южной Сибири, т. е. на территории, простирающейся от Дуная до Великой Китайской стены. Культура, на Юге и Юго-Западе соприкасавшаяся с эллинской и с культурой Передней Азии, на Западе — с культурой кельтских племен, а на Востоке — с культурой Средней Азии и Китая.
Люди этой культуры жили напряженной жизнью, где беспощадные враждебные силы вторгались в человеческую судьбу и где человек должен был постоянно нападать н побеждать, чтобы самому не быть побежденным. Эта жизнь была яркой и насыщенной, и таким же было рожденное этой жизнью искусство.
В каком же роде искусства преуспели эти кочевники-скотоводы, эти воины, вероятно никогда не расстававшиеся с оружием? Идеал красоты, быть может не вполне осознанный, сочетался у них со стремлением создавать такие предметы, которые всем, что они символически выражали, обладали бы некоей магической властью над таинственными силами природы. Сам образ жизни кочевников не располагал их к запечатлению этих символов в монументальной живописи или скульптуре. Они постоянно передвигались; следовательно, произведения искусства могли только служить украшением их оружия и снаряжения. Значит, всего лишь прикладное искусство? Мы увидим, что разграничить изобразительное искусство и прикладное не так-то просто. Все дело в значительности внутреннего содержания художественного произведения.

По качеству и по богатству Эрмитаж обладает единственным в мире собранием скифских древностей (свыше сорока тысяч предметов, среди которых произведения искусства мирового значения).
Вот перед нами один из прославленнейших шедевров этого собрания — золотая фигура оленя из кургана у станицы Костромской (Прикубанье, VI в. до н. э.). Это рельефная пластина, найденная прикрепленной на круглом железном щите в погребении вождя.
Образ оленя был связан для скифов с представлением о солнце, о свете. Вся фигура оленя подчинена художником какому-то особенному, напряженному ритму. В ней нет ничего случайного, лишнего; трудно представить себе более законченную, продуманную композицию. Ну хотя бы гармоническое сочетание чудесной в своем мягком изгибе шеи оленя с тонкой его мордой, над которой величественно возвышаются завитки откинутых назад огромных рогов, каких нет в природе и которые торжественно стелются вдоль всей его спины! Зверь лежит, настороженно прислушиваясь к малейшему шороху, но в нем такой порыв, такое стремление вперед, только вперед, что кажется, будто его подняло с земли и он не лежит, а летит как стрела, рассекая воздух. Все в этой фигуре условно и в то же время предельно правдиво, значит, реалистично. Мы даже не замечаем, что у оленя не четыре ноги, а две, так плотно поджатые друг к другу, что создают впечатление всех четырех.

Так что же это — прикладное искусство? Как будто бы да, раз золотой олень по своему назначению да, очевидно, и по мысли художника всего лишь украшение боевого щита, при этом сравнительно небольшое: 35,1 х 22,5 см. Но вот тут-то, как мы уже говорили, фотографический снимок, сравнение репродукций могут помочь нам распознать сущность художественного произведения. Сопоставьте снимок этого небольшого золотого украшения со снимком (того же формата) мраморного изваяния в несколько метров вышиной: декоративная фигурка оленя может оказаться более величественной, монументальной.
Читать дальше