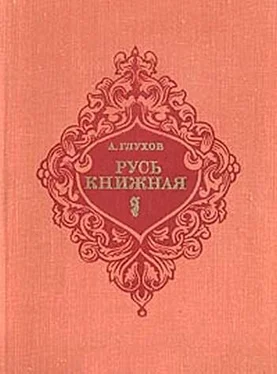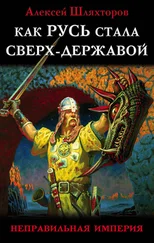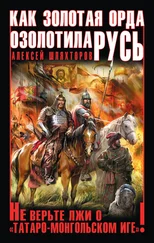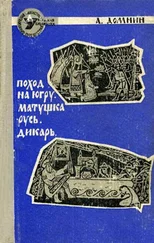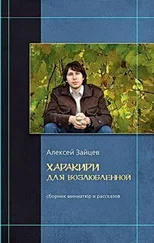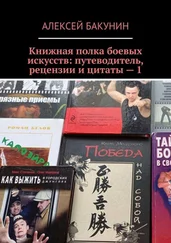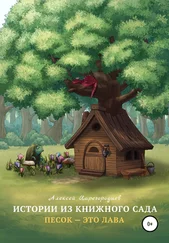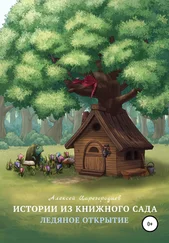Литературу выносить запрещалось, но не возбранялось делать записи. Вскоре, правда, книги под расписку стали получать «на дом» ректор и префект. За порчу и прочий урон взыскивался штраф. Однако обычного удела — утраты книг — Патриаршей библиотеке избежать не удалось.

Одним из ее назначений стало хранение исправных, канонизированных текстов. И этим объясняются появившиеся еще в XVI и прочно установившиеся в XVII веке ее связи с Печатным двором. Из Патриаршей библиотеки не только брали для перепечатки правленые книги, но заимствовали и образцы шрифтов.
Эти общекультурная и идеологическая функции патриаршего книжного собрания особенно ярко обрисовались после 1652 года при Никоне. Именно при нем составился тот фонд, который впоследствии завоевал мировую славу.
Новый 47-летний патриарх, шестой по счету, происходил из крестьян. Ему удалось обучиться грамоте, выбиться в сельские священники. Позже он — монах в северных монастырях, а затем архиепископ в Москве и митрополит в Новгороде.
Умный и властолюбивый Никон сумел завоевать расположение царя Алексея Михайловича, который называл его «собинным» (личным) другом и выдвинул в патриархи. «Из русских людей XVII века, — говорит Ключевский, — я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона».
Сделавшись патриархом, Никон поставил перед собой задачу укрепить церковь, которую расшатали бури века и в которой то и дело вспыхивали внутренние раздоры, поднять ее авторитет. Это совпадало с намерением царя, стремившегося с помощью церкви усилить абсолютистскую власть.
Упорядочение церковных дел, кроме того, связывалось с объединением украинской и русской православных церквей, а также с внешнеполитическими планами московского правительства, так как оно претендовало на роль защитника православных «меньших братьев», попавших под мусульманское владычество.
А для обоснования права вмешательства ему было необходимо убедить общественное мнение в том, что русская церковь — незыблемая хранительница православного чина — нераздельна с угнетенными восточными церквами, и прежде всего с греческой. Никон имел свои тайные цели: как глава власти духовной, он мыслил стать выше царя и поэтому тоже искал себе опору и союзников на Востоке.
Между тем исторически, в силу разных причин, в русском православии сложилась обрядность, несколько отличавшаяся от исконной греческой (двоеперстие при осенении крестом, например). И в сознании паствы эта обрядность освящалась и традицией, и идеей «третьего Рима» — Московского государства как единственного преемника павших «за грехи» Римской и Византийской империй. К тому же церковь Византии в глазах русских людей была сильно скомпрометирована унией с католиками и турецким пленением.
Таково было настроение умов, когда Никон, по словам Ключевского, «на много дней затворился в книгохранилище, чтобы рассмотреть и изучить старые книги и спорные тексты… Он начал рассматривать и сличать с греческим славянский текст символа веры и богослужебных книг и везде нашел перемены и несходства с греческим текстом. В сознании своего долга поддерживать согласие с церковью греческой он решил приступить к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов».
Первый шаг Никона в этом направлении — распоряжение о проведении учета и описания наличных книг. Нужно было ясно представить, что могло понадобиться для предпринимаемой работы. Во вступлении к «Описи книгам, в степенных монастырях находящимся» можно прочитать: «161 (1653) году генваря в 11 день, по указу великого господина святейшего Никона патриарха московского и всея Руси, выписано степенных монастырей из отписных книг, в которых монастырях обретаются церковные четьи, того ради, чтобы было ведомо, где которые книги взяти, книг печатного дела исправления ради».
Эта опись явилась беспрецедентной в своем роде. В нее были внесены 2672 русские рукописные книги из 39 монастырей. И хотя они включались выборочно, все равно, как отмечает автор «Истории русской библиографии» Н. В. Здобнов, опись «сохраняет значение первого в России сводного каталога». Она свидетельствует также о целенаправленности и размахе, с которыми начал свою деятельность Никон.
И вновь на патриарший двор потянулись книги из разных углов России, Отбирались они, надо полагать, по личному указанию патриарха. Никон был опытным собирателем. Будучи еще митрополитом в Новгороде, не подвергавшемся монгольскому нашествию, и имея доступ в местные монастырские библиотеки, он накопил ценную коллекцию древних русских пергаментных рукописей, влившуюся затем в Патриаршую библиотеку.
Читать дальше