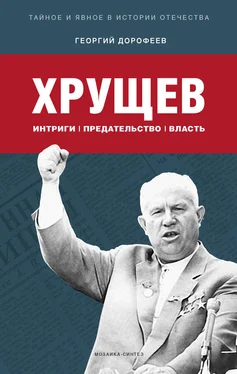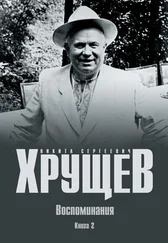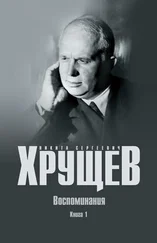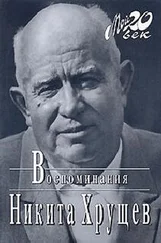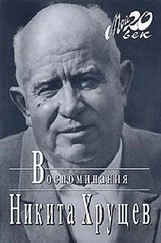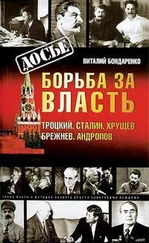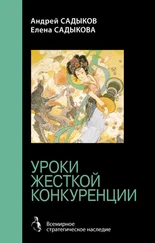В отношении колхозов Хрущев занял позицию, диаметрально противоположную той, что была объявлена Сталиным в «Экономических проблемах социализма в СССР». В этой работе отмечалось, что колхозная собственность уже начинает тормозить развитие производительных сил и задача состоит в том, чтобы постепенно, но неуклонно, без колебаний превращать колхозную собственность в общенародную.
Что касается Хрущева, то он считал, что артельная форма колхозов является единственно верной формой коллективного хозяйства на весь период социализма. Однако, когда эта идея вошла в противоречие с действительностью, он предложил направить городских специалистов в деревню для поднятия сельскохозяйственного производства. О возможности подобрать таких людей в самих колхозах или пойти по пути, указанному Сталиным, он не говорил. Такие мысли, судя по всему, ему даже в голову не приходили.
Остановить реформаторский зуд Хрущева было невозможно. Собственно, это никто и не пытался делать. Подчиняясь партийной дисциплине, ему больше кивали, поддакивали, похваливали, соглашались. А Никита Сергеевич, надувая щеки, выпячивая грудь, произносил одну речь за другой. Тогда еще родился анекдот: спрашивают, можно ли в газету завернуть слона? Отвечают: можно, если в ней напечатана речь Никиты Сергеевича.
Возражал и спорил с Хрущевым по его реформаторским затеям и инициативам только Молотов. Когда Хрущев решил сразу же освоить 40 миллионов гектар целинных земель, тот пытался его остановить:
– Поспешность может повредить делу, – сказал Вячеслав Михайлович. – Я не против целины, но не в таких масштабах. Лучше технику и те деньги, которые у нас есть, вложить в обжитые центральные районы России. Надо поднимать Нечерноземье, а то оно совсем обезлюдело. А целину осваивать постепенно с учетом возможностей.
Хрущев отмел это предложение и обвинил Молотова в непонимании сути дела.
– Ты враг целины, – сказал он, – и говорить с тобой не о чем.
Прошел год. Проблемы освоения целины вынесли на заседание Президиума: средства были израсходованы, собранный урожай оказалось негде хранить и он сгнил на корню или в буртах. В общей сложности получили по 1,5–2 центнера с гектара. В целинных краях началась экологическая катастрофа – пылевые бури, уничтожены небольшие озера, реки и богатые ягодные рощи, где раньше гнездились птицы.
Выступал Молотов и против хрущевской затеи о ликвидации министерств и создания совнархозов (советов народного хозяйства). Он считал это дело совершенно не подготовленным. Молотов написал целое послание в Президиум ЦК, но его так и не рассмотрели.
Против ликвидации отраслевых министерств выступил и заместитель председателя Совета министров Тевосян, назвав это намерение «ошибкой», а на второй день, в подкрепление своих слов, послал Хрущеву записку, в которой изложил аргументы против предполагаемой реорганизации. Он доказывал, что эта реформа приведет к отраслевой разобщенности и нанесет ущерб единой технологической политике.
Почувствовав в Тевосяне непреклонного противника своих замыслов, Никита Сергеевич отправил его послом в Японию. Все остальные, несогласные с его идеей, боясь расправы, стали помалкивать.
Вскоре стало ясно, что совнархозы не жизнеспособны, а экономика страны основательно подорвана.
В отношении Молотова Никита Сергеевич также не остался в долгу. Чтобы ограничить его влияние на решение внутренних и внешнеполитических вопросов, он стал беспардонно вмешиваться в работу МИДа, возглавляемого Молотовым. Министерство иностранных дел, по указанию Хрущева, начали «укреплять» членами ЦК.
– Вопросы внешней политики, – разглагольствовал Хрущев, – это крупные политические вопросы, и они должны быть в руках Центрального комитета, а не в руках чиновников. Поэтому в МИДе должны работать достойные люди, и мы теперь там таких имеем.
Молотов понимал конечную цель этих выступлений, но ничего не мог этому противопоставить. Хрущев прибрал Министерство иностранных дел к рукам, и вскоре весь мир содрогнулся от его дипломатических инициатив. Он поссорился с Ки таем, балансировал на грани войны по германскому вопросу, в качестве доказательств своей правоты стучал в ООН по столу туфлей (с тех пор хрущевскую дипломатию стали называть «башмачной») и, наконец, спровоцировав Карибский кризис, поставив мир на грань ядерной войны.
«Воспитание» творческой интеллигенции
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу