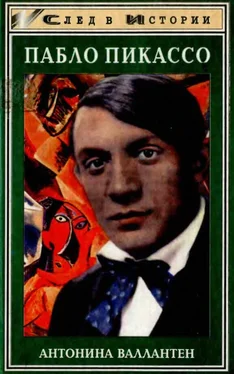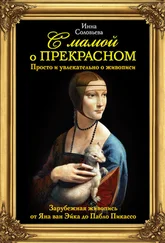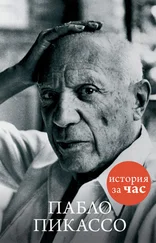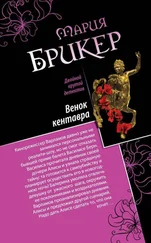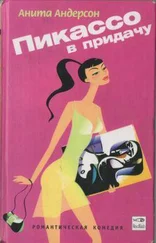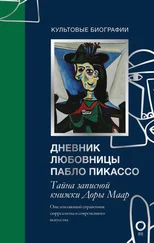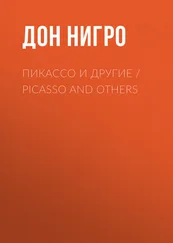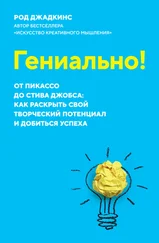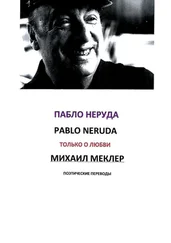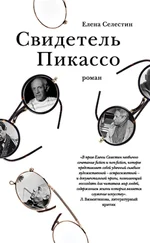Вспомните чудеса своего детства: пейзаж, который можно было разглядеть в каком-то пятне, ночной Везувий в стереоскопе, камин с подарками деда-мороза, вид коридора через замочную скважину — и вы поймете секрет декораций, которые заполняли всю сцену Оперы и состояли только из серых холстов и домика ученых собачек.
Накануне генеральной репетиции «Антигоны», в декабре 1922 года, мы, актеры и автор, сидели в зале «Ателье», у Дюллена [52] Дюллен Шарль (1885–1949) — французский режиссер, актер, педагог. В 1922 году основал театр «Ателье».
. На выкрашенном синькой холсте слева и справа были проделаны отверстия. А высоко посередине — дыра, в которую вставили рупор — через него звучала партия хора. Вокруг этой дыры я расположил маски женщин, мальчиков, стариков, разрисованные Пикассо и те, которые я сделал сам по его эскизам. Ниже висела белая доска. Ее надо было оформить так, чтобы создать впечатление, будто вся эта декорация сделана на скорую руку; и вместо того, чтобы похоже или непохоже — а это обходится одинаково дорого — воссоздавать обстановку, мы хотели лишь передать ощущение знойного летнего дня.
Пикассо прохаживался взад и вперед по сцене.
Сначала он потер доску палочкой сангины, и благодаря неровностям дерева она стала мраморной. Затем взял бутылку чернил и провел несколько линий. Вдруг он затушевал пустоту в нескольких местах, и появились три колонны. Их появление было столь удивительным и внезапным, что мы зааплодировали.
Уже на улице я спросил у Пикассо, рассчитал ли он их появление, хотел ли он их нарисовать с самого начала или это было неожиданностью для него? Он ответил, что сам ничего такого не ожидал, но что всегда есть бессознательный расчет и что дорическая колонна, подобно гекзаметру, рождена чувственным исчислением, и он, возможно, открыл ее точно так же, как в свое время это сделали греки. (…)
(…) Своим совершенством Пикассо, как и Малларме, делает неизбежным поворот будущего гения к прозрачности.
Такова роль последнего, он должен подготовить новую площадку и рассыпать на ней шипы. Быть преемником Пикассо вдвойне трудно: ведь он не только превосходный шахматист, но и мастер многих хитрейших в своей бесхитростности игр.
А значит, перехитрить его можно только новой, неизвестной ему бесхитростностью.
На моих глазах с началом кубизма рог изобилия опрокинулся на Европу: гипноз, утонченные чары, дерзкие выходки, пугала, затейливые кружева, клубы дыма, модные корсеты, черти из табакерок, подснежники, бенгальские огни так и посыпались из него.
Увижу ли я грядущую генеральную чистку? А начнется она с известной проблемы: дети не хотят быть похожими на отцов, однако, войдя в их роль, действуют по законам амплуа.
Но если сейчас зрение мое и слабеет, то я счастлив тем, что в дни молодости, когда оно было острым, мне выпало счастье приветствовать Пикассо.
Из книги «Критическая поэзия» 1959
Книга Антонины Валлантен вышла в свет в 1957 году, Пикассо было тогда семьдесят шесть лет. Впереди у него были еще многие годы, посвященные творчеству, такому странному, такому необычному и все же — гениальному.
Пикассо был, пожалуй, одной из самых противоречивых фигур в искусстве XX столетия. Его поносили, им восхищались, на него молились, его проклинали. О нем рассказывали анекдоты, один из них довольно известен: Пикассо отправился в Англию на выставку. На лондонском вокзале у него украли часы. Полицейский инспектор попытался выяснить у художника, не было ли рядом с ним каких-нибудь подозрительных личностей. Пикассо вспоминал, что один человек помог ему выйти из вагона, поддержав под руку. Художника попросили нарисовать портрет этого человека. Уже к вечеру лондонская полиция, руководствуясь рисунком, арестовала двух старичков, трех старушек, пять троллейбусов и шесть стиральных машин.
Словом, каких только отзывов он не удостаивался. Бесспорно одно: ни один художник XX века не может оспаривать влияния Пикассо практически на все направления живописи, рисунка, скульптуры и гравюры. Другого такого просто нет. Знатоки и критики спорят о нем до сих пор, это ли не свидетельство его таланта, пусть и противоречивого?
Пикассо превратился в личность почти мифическую, его воспринимают, собственно, уже не как человека, но как явление, как невиданный феномен, оказывающий немалое влияние на формирование общественных и политических взглядов. Хотя нужно сказать, что подобных целей Пикассо перед собой никогда не ставил.
Читать дальше