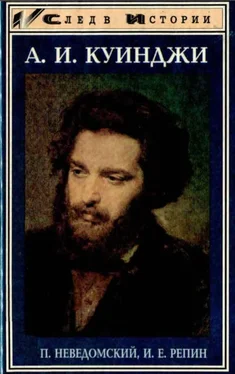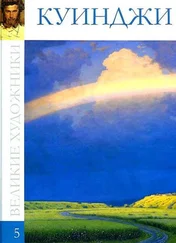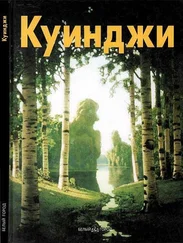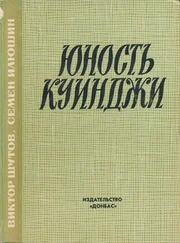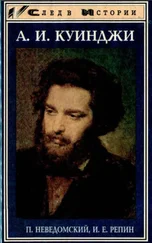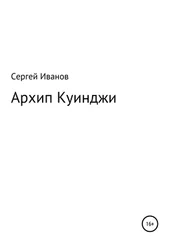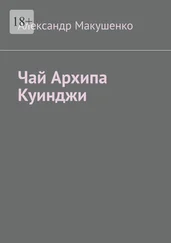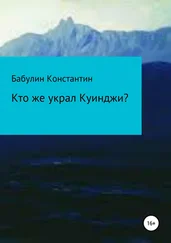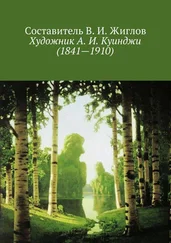Народническая эстетика страдала не только аскетизмом, о котором я упоминал, не только стремлением к опростительству, т. е. известным подчинением сельскому, мужицкому укладу нашей жизни; не только красота толстовского дяди Акима ложилась в ее основу; помимо этого, чрезмерно сосредоточиваясь на идее, на нутре (которое, в силу мессианического умонастроения, признавалось особенно богатым, так сказать, уже от природы), — эта эстетика недооценивала культуру, форму вообще, принцип коллективного творчества и постепенного накопления общечеловеческого опыта. И теоретически, и практически европейская техника почти игнорировалась нашей самобытной школой…
А это привело только к замедлению ее роста, только к несомненным эстетическим минусам. Пленэр, например, разработанный еще «барбизонцами», был со значительным опозданием привезен в Россию только Репиным, примкнувшим к передвижникам в 1878 году, а затем уже в лице Серова нашел горячего и последовательного своего адепта… Импрессионизм, к которому теоретически довольно сочувственно относился уже Крамской, почти без влияния французов, самостоятельными исканиями Куинджи, а затем в творчестве Левитана, — тоже лишь с опозданием проникал в наш пейзаж…
Теоретическое оправдание самобытничества мы найдем во многих из писем Крамского, уже не говоря о статьях неизменного поклонника «нутра» В. В. Стасова.
Вот несколько красноречивых строк из письма Крамского к Репину:
«Уж если на то пошло, то я утверждаю, что нет более настоящих импрессионалистов, как мы, русские, начиная с Тропинина вплоть до начинающего мальчика в школе живописи в Москве. И я недаром переношу это начало в Москву: в Петербурге есть еще традиции, а уж в Москве совсем их не видать. Словом, на этом пункте сходятся: стареющее общество с варварством, одно — в силу отрицания изолгавшегося искусства, другое — в силу круглого невежества; с одной стороны — 40-летние парни, изношенные и бессильные перед задачами природы, делающие умышленно курьезные опыты, с другой — наивные и смышленые мальчики. Если бы можно было предохранить их от разлагающего влияния… так называемой иностранной живописи…»
В результате этих самобытнических настроений техника у передвижников была действительно «простоватая», как выразился в одной своей статье (1898 год) Репин, как искренне признавал это и Крамской, и лично в отношении себя, и в отношении своих товарищей…
Этим самобытническим духом был проникнут в годы передвижничества и Куинджи.
Крамской, с непонятным в наши дни восторгом, передает его отзывы о европейской живописи (Письмо к Репину, 1875 год):
«Поговорили всласть с глубокомысленным греком; я покатывался со смеху, когда он излагал свои взгляды на Европу, искусство, Фортуни, Коро и прочее… и только спрашивал: «И вы так там (в Париже, то есть) прямо и говорили?» — «И говорил…» — «Чудесно!» Нет, воля ваша — у нас решительно есть будущность. Это несомненно, как день…»
Такова была общественно-идейная атмосфера, которая окружала Куинджи — в те годы, когда дарование его достигало зрелости, когда художник духовно слагался и определялся…
И невольно думается: появись он в иную эпоху, с иным, более выгодным для эстетики настроением, его огромный природный талант развивался бы быстрее, не тратя сил на преодоление трудностей, быть может, уже преодоленных «старшими» школами искусства… И не то же ли надо сказать и про таких крупных представителей передвижнической эпохи, как сам «идеолог» Крамской или Ге, или, особенно, Суриков?..
Немало их вообще знает наше русское художество — таких неограненных самоцветов, неотшлифованных культурой самородков — в области пластики, как и в литературе…
Чтобы покончить с этой беглой характеристикой народнической эпохи, мне остается упомянуть о философских вкусах, об общем строе миросозерцания того времени.
С самых 40-х годов русская передовая мысль шла неуклонно к позитивизму и далее, к материализму.
Надежды на проникновение в лабораторию природы, на полное постижение ее тайн, несколько наивная и прямолинейная вера в возможность сведения всей жизни к химическим, а то и механическим процессам, — все это должно было отразиться и на художестве, на его концепции действительности… Реализм в искусстве исходил из идеи о возможности полной, безусловной передачи объективной действительности. Художник должен был подчиняться этой действительности, тщательно, почти рабски копировать ее, выражаясь фигурально — должен был давать лишь «протокол» действительности. Правда, понимаемая подобным образом, стала девизом искусства. И не одной только пластики и поэзии. Совсем аналогичное настроение царило и у новаторов пашей музыки, создававших в эти годы также национальную и реалистическую, можно сказать — «передвижническую», школу русской музыки. Это началось еще с Даргомыжского:
Читать дальше