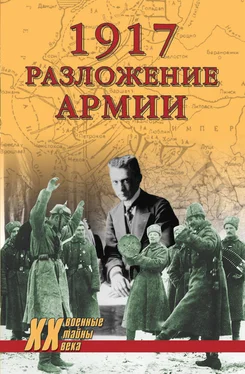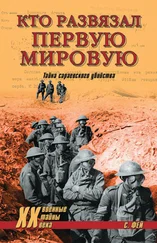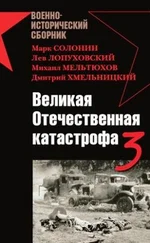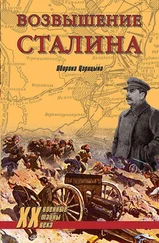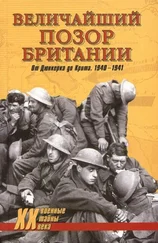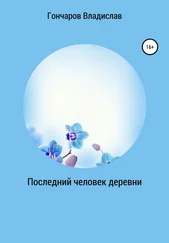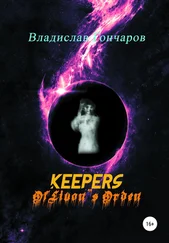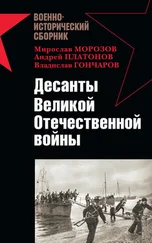Да, большевики были против войны, и эта позиция была последовательной, занятой еще в 1914 году, а не вызванной политической конъюнктурой. Большевики были единственной партией, выступавшей за скорейшее прекращение войны, – и это обеспечивало им потенциальную поддержку солдатской массы. Но во всем остальном они тоже не знали, что делать с армией. Поддержка братания, судя по всему, была вызвана популярностью этого явления на фронте, а отнюдь не какими-то коварными планами по разложению армии, тем более что братание постепенно разлагало и войска противника – в большей степени австрийские, в меньшей германские.
Интересен и такой факт: с начала осени, после Корниловского мятежа, большевистские комитеты все чаще начали противодействовать распаду армии. Иногда они при этом вступали в прямой конфликт с солдатами, иногда дело оканчивалось идиллией: осенние сводки о настроениях солдат отмечают и «отрадные факты» – так,
«полное соглашение достигнуто между командным составом и ревкомом 12-й армии, где командарм Новицкий и все комкоры беспрекословно подчинились власти ревкома» (документ № 184).
Часто приходится слышать мнение, что причиной падения дисциплины стало отсутствие репрессий против нарушителей. Однако документы опровергают это убеждение: как сообщал генерал Брусилов на совещании в Ставке 17–18 декабря 1916 года, в 7-м Сибирском корпусе «люди отказывались идти в атаку; были случаи возмущения, одного ротного командира подняли на штыки, пришлось принять крутые меры, расстрелять несколько человек, переменить начальствующих лиц, и теперь корпус приводится в порядок» (см. документ № 8). Заметим, что еще 15 июня 1915 года, будучи командующим 8-й армией, генерал Брусилов издал следующий приказ: «…Сзади нужно иметь особо надёжных людей и пулемёты, чтобы, если понадобится, заставить идти вперёд и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что ещё хуже, сдаться в плен» [4] .
Дальше – больше. В середине декабря 1916 года в частях 2-го и 6-го сибирских корпусов 12-й армии начались волнения, связанные с отказом солдат участвовать в предстоящем наступлении (Митавская операция). Солдаты отказывались идти в атаку, ссылаясь на то, что отсутствуют штурмовые лестницы, гранаты не взрываются из-за негодных капсюлей, при этом потери в ротах при атаке доходили до 30–40 %. Отказавшемуся наступать 1-му батальону 17-го полка 5-й сибирской дивизии (2-го Сибирского корпуса) в личном разговоре с командиром корпуса генерал-лейтанентом И.К. Гандуриным был обещан перевод на тыловые работы. Но как только солдаты сдали оружие, от них потребовали выдачи подстрекателей, пригрозив расстрелом каждого пятого. Солдаты батальона отказались, после чего из их состава были произвольно выбраны 24 человека, отданных под военно-полевой суд и приговоренных к расстрелу; сам батальон был расформирован. Несколько позже из состава 17-го полка под суд было отдано еще 167 человек, все унтер-офицеры и ефрейторы разжалованы в рядовые, а командир полка Бороздин отстранен от должности [5] .
25 декабря проводивший следствие в 14-й Сибирской дивизии генерал-лейтенант Довбор-Мусницкий в рапорте на имя Николая II сообщал: «В боях под Ригой 23 и 25 декабря стрелки некоторых рот 55-го Сибирского стрелкового полка отказались идти в бой и на увещевания офицеров грозили последним оружием… По моему приказанию в 15 часов 25 сего декабря 13 стрелков 5-й и 7-й рот расстреляны стрелками тех же рот в присутствии моем и представителей от всех рот и команд полков дивизии, находившихся на вверенном мне участке. Расстрелянные уроженцы преимущественно Пермской, Томской, Владимирской и Петроградской губерний. Дознание производится. Порядок восстановлен» . Таким образом, 13 человек были расстреляны без всякого суда. Николая II начертал на докладе Довбор-Мусницкого: «Правильный пример» [6] .
26 и 27 декабря в 55-м полку были арестованы еще 68 человек, из них 61 предан военно-полевому суду, который приговорил к расстрелу 37 человек. Смертный приговор утвердил временный начальник 14-й Сибирской дивизии генерал-майор Чаплин. 37 солдат были расстреляны 5 января 1917 г. в деревне Егансон [7] .
На том же совещании 17–18 декабря генерал Эверт упоминал случай в 3-й армии, когда после беспорядков, вызванных выдачей денег вместо сахара [8] , в одном полку было расстреляно 7 человек. Тогда же генерал Рузский отметил важную деталь, которой впоследствии будет суждено сыграть немалую роль: «В Петрограде, например, бедный стонет, а богатый все может иметь. У нас нет внутренней организации». И далее: «В Петрограде полная дезорганизация. Соборы, учебные заведения, 700 000 рабочих, – все просят снабжать их».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу