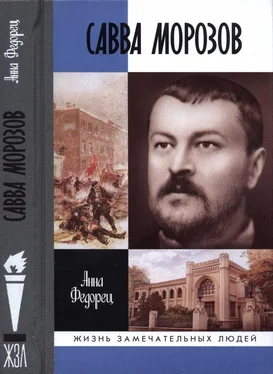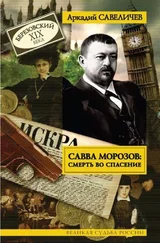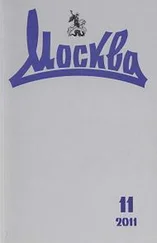Савва Тимофеевич очень не любил выставлять напоказ свои истинные — особенно положительные — эмоции. Он воспринимал подобную открытость как проявление слабости перед чужаками, как добровольное обнажение уязвимого места. Морозов словно боялся обжечься о насмешку того, кто находился рядом с ним, и угадывал его слабые стороны. При общении с людьми посторонними и не вызывавшими доверия Морозов неизменно «закрывался».
Стремление во что бы то ни стало сохранить дистанцию между собой и окружающими являлось одним из мощнейших стимулов, толкавших Морозова на те или иные поступки. Достигалась эта цель разными средствами. Иной раз — при помощи общественного положения: Морозов прекрасно играл роль хозяина, распорядителя судеб, того, кто обладает не подвергающейся сомнению силой. В этом амплуа представал он перед рабочими, просителями, иногда даже перед купеческой братией. Не зря Горький отмечал: «Дважды мелькнув передо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде проницательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими». [81] Горький М. Савва Морозов… С. 13.
Если Морозов не хотел иметь дело с человеком равным или выше себя по статусу, либо же просто неприятным, он обдавал собеседника холодом. Обычно это делалось в предельно вежливой форме. Ему странным образом удавалось «вымораживать» значительные куски пространства вокруг себя, разделять окружающую его аудиторию на согласных с его позицией и несогласных (причем последние нередко составляли подавляющее большинство). Прекрасный пример приводит Максим Горький в самом начале очерка «Савва Морозов». В 1896 году в Нижнем Новгороде «…на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головою, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку. В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких ворчливых возгласов. Я спросил: «Кто это?» — «Савва Морозов».
Любых проявлений фамильярности и пошлости, любых попыток собеседника навязать свое мнение Морозов органически не переносил. Как только собеседник становился слишком настырным и проявлял непонятливость или же заводил пустую беседу, заставляя Морозова жалеть о напрасной трате времени, Савва Тимофеевич становился угрюм, резок и забывал о вежливости. Вообще, в восприятии Морозова существовала некая невидимая, но весьма определенная внутренняя черта, делившая действия окружающих на «нормально» и «слишком». Слишком громко, слишком глупо, слишком долго, слишком жадно… Тот, кто переступал эту черту, рисковал нарваться на резкий отпор. В частности, это следовало учитывать тем, кто приходил к Морозову за субсидиями. «Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бегающие и при этом многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват». [82] Алданов М. А. Указ. соч. С. 61.
Зато тем немногим, кого Морозов приближал к себе, кто не делал попыток его завоевать, он доверял всецело. По крайней мере — до тех пор, пока они оправдывали это доверие. Увлекшись кем-либо, Савва Тимофеевич, по словам Владимира Ивановича Немировича-Данченко, «отдавал свою сильную волю в полное распоряжение того, кем он был увлечен; когда говорил, то его быстрые глаза точно искали одобрения, сверкали беспощадностью, сознанием капиталистической мощи и влюбленным желанием угодить предмету его настоящего увлечения». Только рядом с теми, кому Савва Тимофеевич доверял, он позволял себе быть самим собою — тем «живым, добродушным молодым человеком», [83] Олсуфьев Д. А. Революция: Из воспоминаний о девятисотых годах и об моем товарище Савве Морозове, ум. 1905 г. // Возрождение. 1931. 31 июля (№ 2250). С. 5.
каким его запомнил граф Дмитрий Адамович Олсуфьев. Свидетельство графа особенно ценно: одногодок С. Т. Морозова, он подружился с Саввой Тимофеевичем на первом году обучения в университете, когда личность С. Т. Морозова еще не обросла слоями защитных оболочек. Только с очень близкими людьми, которых он особенно любил и ценил, Савва Тимофеевич был по-настоящему весел и раскрепощен, отпускал бесконечные шутки, а время от времени, отдыхая от личины делового человека, даже устраивал шалости. В их присутствии Морозов мог доходить до предельной искренности, с жертвенной готовностью обнажая душу. Мария Федоровна Андреева, на протяжении нескольких лет являвшаяся, наверное, самым близким Морозову человеком, отмечала эту черту: «Как все очень богатые люди, он был крайне недоверчив, подозрителен, туго сходился с людьми, но, раз поверив, отдавался всей душой и сторицей вознаграждал своим отношением за всякое малое доброе, сделанное ему». [84] Андреева М. Ф. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М., 1968. С. 676.
Читать дальше