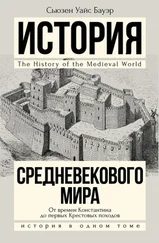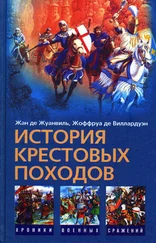Императоры-иконоборцы, будучи родом с Востока, были хорошо знакомы с существовавшими там религиозными взглядами; они на этих взглядах выросли; они с ними сроднились и, сделавшись императорами, перенесли их в столицу, чтобы положить в основание своей церковной политики. Императоры-иконоборцы не были ни неверующими, ни рационалистами, как о них говорили раньше. Наоборот, они были искренно и убежденно верующими и хотели очистить религию от тех искажений, которые с течением времени проникли в нее и отдалили от первоначального истинного направления. [625] [625] Об интересной переписке по догматическим вопросам между халифом Омаром II и Львом III, которая сохранена армянским историком Гевондом и может быть подложной, см. следующее подробное исследование: A. Jeffery. Ghevond's Text of the Correspondence between Umar II and Leo III. – Harvard Theological Review, vol. XXXVII, 1944, pp. 269-332.
С их точки зрения, поклонение иконам и почитание мощей являлось остатками язычества, которые во что бы то ни стало необходимо было уничтожить для возвращения христианской религии к первоначальному образцу. «Я император и священник» – писал Лев III папе Григорию II. [626] [626] Gregorii II Epistola XIII ad Leonern Isaurum Imperatorem (PL, t. LXXXIX, col. 521: «imperator sum et sacerdos»). Вопрос о том, являются ли письма Григория II Льву III подложными (см.: L. Guerard. Les Lettres de Gregoire II a Leon L'lsaurien. – Melanges d'archeologie et d'histoire, X, 1890, pp. 44-60) или подлинными (см.: Н. Mann. The Lives of the Popes. London, 1925, vol. I, pp. 498-502) – не столь важен для наших целей. В любом случае, письмо было написано или сфабриковано на основании очень хороших свидетельств. См.: J. В. Bury. Appendix 14 к пятому тому его издания Гиббона; Hefele-Leclercq. Histoire des conciles, vol. III, 2, pp. 659-664; Cabrol в «Dictionnaire d'archeologie chretienne…» (vol. VII, I, p. 248). Новое издание писем Григория: Е. Caspar. Zeitschrift fur Kirchengeschichte, Bd. LII, 1933, SS. 29-89, особенно S. 76. Последние исследования высказываются скорее в пользу подлинности этих писем.
Исходя из этого положения, Лев III, будучи провозглашен императором, считал себя вправе сделать свои религиозные взгляды обязательными для подданных империи. В последнем нельзя усматривать чего-либо нового: это был обычный взгляд византийского императора, представителя идеи цезарепапизма, особенно знакомый нам по примеру Юстиниана Великого, считавшего себя полным хозяином как в светских, так и церковных делах. Лев III также являлся ярким представителем идеи цезарепапизма.
Первые девять лет правления Льва, посвященные им отражению внешних врагов и укреплению трона, не были ознаменованы какими-либо мерами относительно икон. Церковная деятельность императора в этот период выразилась в его требовании евреям и восточной секте монтанистов принять крещение.
Лишь на десятый год своего правления, т. е. в 726 году, император, по словам хрониста Феофана, «начал вести речь об уничтожении святых и досточтимых икон». [627] [627] Theophanes. Chronographia, ed. С. de Boor, p. 404.
Большинство современных историков говорили об эдикте Льва III против икон, изданном им в 726 году или в 725 году. К сожалению, текст этого декрета неизвестен. [628] [628] Последние исследования: Ch. Diehl. Leo III and the Isaurian Dinasty (717-802). – Cambridge Medieval History, vol. IV, p. 9. Н. Leclercq. Culte et querelle des images. – Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie. Paris, 1926, vol. VII, I, col. 240-241; Ф. И. Успенский. История Византийской империи, т. 2, с. 25.
Вскоре после издания эдикта он приказал уничтожить очень почитаемую икону – статую Христа, стоявшую над одной из дверей Халки – так назывался великолепный вход в императорский дворец. Уничтожение иконы вызвало возмущение, в котором главное участие приняли женщины. Посланец императора, которому было ведено уничтожить икону, был убит, за что защитники иконы Спасителя понесли тяжелые наказания. Это были первые мученики иконопочитания. О каких-либо других фактах преследования икон сведений нет.
Враждебное к иконам настроение Льва вызвало серьезное противодействие. Константинопольский патриарх Герман и римский папа Григорий II высказались решительно против предполагаемой политики императора. В Греции и на островах Эгейского моря вспыхнуло восстание во имя защиты икон, подавленное, правда, войсками Льва. Все это не давало ему возможности выступить с более решительными мерами.
Наконец, только в 730 году император созвал род собора, на котором был составлен эдикт против икон. Весьма вероятно, что этот собор не издавал нового эдикта, а скорее восстановил декрет 725 или 726 года. [629] [629] См.: Н. Leclercq. Constantin. – Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie, vol. III, col. 248. (Он относит второй декрет к 729 году.)
Несоглашавшийся подписать его патриарх Герман был низложен и был вынужден удалиться в свое поместье, где мирно и окончил жизнь. Вместо него патриархом сделался Анастасий, который подписал эдикт. Это был первый эдикт против икон, изданный не только от имени императора, но и скрепленный подписью патриарха, т. е. как бы изданный также от имени церкви, что было очень важно для Льва.
Читать дальше