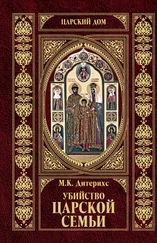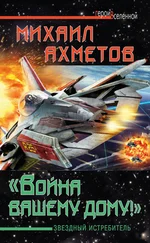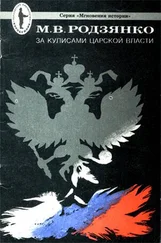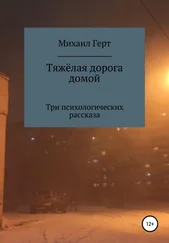Но такие незапланированные контакты, видимо, всё же состоялись. Недаром среди декабристов было немало морских офицеров. Не зря опасались Романовы подобных вояжей. Поэтому И.Ф. Крузенштерн справедливо называет Николая Петровича Румянцева, в то время министра коммерции, «главным виновником сего путешествия», который не только горячо поддержал проект первой русской кругосветной экспедиции, но и написал для неё инструкцию. Да, именно этот великий человек и меценат был основателем главной российской библиотеки, носившей его имя до Октябрьской революции. Как он заботился о приумножении российской славы! (К сожалению, сегодняшние министры от коммерции радеют о распространении дурной молвы о себе, и частенько объявляются в бегах).
Надо сказать, что описание круиза Крузенштерном не даёт богатой и новой исторической мысли. В нём, прежде всего, видели пользу моряки и географы. Там даются очень чёткие координаты океанических течений, проливов, островов, необходимых путешественникам для успешного завершения плавания и достижения целей. Я пытался найти в описаниях подтверждения идеи ФН [50] о том, что Берингов пролив ранее носил название “ANIAN” — в честь его подлинного первооткрывателя Аники Строганова (того самого «пермяка»). Однако автор ни в одном месте повествования не проявил интереса к данному вопросу, тем более, что он там и не был. Зато есть на Курильских островах народность, называющаяся айнами, или аннами. Они-то и ходили многажды через тот самый пролив в Америку. Вместе с тем, внимание ФН к проливу происходит от их предположения, что Аника Строганов (он же и Ермак) мог именно этим путём и проникнуть на американский континент, если вообще был военным походом в Сибири. Об этом чуть позднее (с. 132).
Корабль «Надежда» имел на своём борту дипломатическую миссию в Японию во главе с крупным и влиятельным чиновником Резановым, пытавшемуся держать первенство на корабле. Не будем его, однако, осуждать — ведь это он вместе со своим родственником купцом Шелиховым нёс на себе основной груз организации торговли с американскими территориями, принадлежавшими России. От его миссии во многом зависела будущая судьба Русско-Американской компании, да и самой территории. Однако результаты посольства оказались намного скромнее ожидаемых. Более полугода провела команда корабля в Нагасаки, но почти ничего не узнала о Японии. Это была страна, закрытая для иностранцев. Только через 6 недель после прибытия было разрешено сойти на берег нескольким человекам, которым выделили крохотный участок прибрежной полосы, огородив его высоким забором. Посланнику тоже было отведено место у самого края моря за многорядными ограждениями. Положение было унизительным как для посла, так и любого матроса в одинаковой степени. Сами переговоры заняли несколько месяцев и сопровождались невиданными церемониями. В общем, экипаж «Надежды» был рад возможности покинуть негостеприимные берега Японии.
Всё это напомнило мне те страницы из книги ФН [64*], где они говорят о необычайно «высокомерной» атмосфере, царившей во время дипломатических приёмов в Кремле. Вместе с тем, ФН писали [125*], что Япония когда-то тоже входила в состав Великой Русской Империи и унаследовала, если не её богатства, то её церемониалы: «с. 96.Часть самарских (или самарийских) казаков пришла в XIV–XV веках в Японию. Где сохранила своё название самураи до нашего времени. Кстати, на своих шлемах они носили османский-атаманский символ — полумесяц». Там же ФН цитируют мексиканского профессора Г.З. Алонзо: «с. 130. …Путешественник Джеймс Черчворд говорил, что мексиканские индейцы и японцы могут понимать друг друга без помощи переводчика и что сорок процентов японского языка имеет идиомные корни языка майа». Г.З. Алонзо продолжает: «…Колумбиец Альберто Санчес сообщил мне о существовании племени, называющемся «Колорадо», или «Красные», которое он обнаружил в Сальвадоре. Племя это фактически вымерло, сегодня в нём осталось всего лишь около пятисот человек. Они говорят на колорадском диалекте, который подобен японскому языку».
И.Ф. Крузенштерн уделяет внимание русским путешественникам, побывавшим до него в этих местах. В частности, мореходу Лаксаману Эрику (р.1737 г. — ум. 1796 г.), исколесившему всю Россию в изучении её флоры и минералов. Последний оставил после себя драгоценные коллекции, организовал стекольный завод возле Иркутска, исследовал о. Байкал; в 1795 г. был назначен руководителем научной части новой экспедиции в Японию, где ранее запомнился местным жителям как «человек с косичкой» (Ты уже знаешь [121], что Исус Христос как выходец из Руси тоже носил косичку?). Лаксман был пионером в торговле с Русской Америкой. Но его скоропостижная смерть, почти одновременная с купцом Григорием Ивановичем Шелиховым (1795 г.), руководителем торговой части второй экспедиции в Японию, наводит на размышления и заставляет искать объяснения. Сам Шелихов был крупнейшим деятелем на открытых новых островах в Тихом океане, много сделавшим для укрепления этих русских владений; также он основал Российско-Американскую компанию. А закончю этот день строками из стихотворения «Человеческое общество» Фридриха Геббеля:
Читать дальше