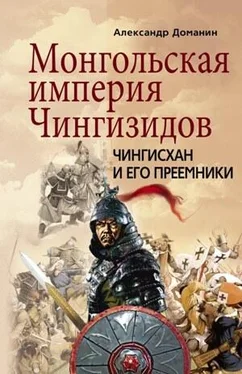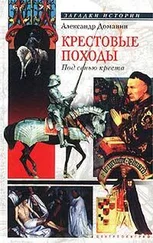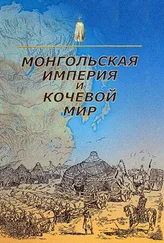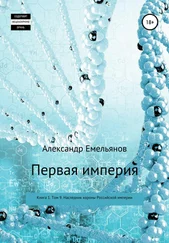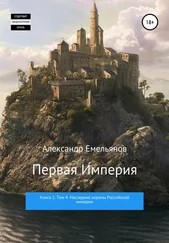Транзитная торговля окончательно изменила культуру и образ жизни уйгуров. В первую очередь, торговля требовала грамотных людей, и уйгуры уже в конце X века придумали собственный алфавит. Позднее он получил широкое распространение и был при Чингисхане перенят монголами, а уйгурские грамотеи заняли законное и, надо полагать, небезвыгодное положение писцов и счетоводов при ставке хана. Кроме того, богатство, достающееся сравнительно небольшими усилиями, окончательно оттолкнуло уйгуров от военной стези. Они стали мирными людьми, предпочитая откупаться или платить дань потенциальным захватчикам, а не воевать. Так они откупились от победоносного Елюя Даши, признав его верховную, но сугубо номинальную власть. Так они позднее без всякой крови и войн вошли и в державу Чингисхана. У уйгуров даже властитель назывался своеобразно. У других народов были в ходу эпитеты «великий», «сильный», «могучий», «царь царей» и тому подобное — взять того же кара-киданьского гурхана. Правитель уйгуров назывался идикут, что в переводе означает «господин счастья». Вот как! Поймали счастье за хвост и теперь сидят на нем во главе с его господином. Надо сказать, что и монгольское завоевание отнюдь не нарушило уйгурского счастья — скорее наоборот, время монгольской империи стало эпохой наивысшего расцвета уйгурской транзитной торговли.
Следуя дальше на запад, мы попадаем в земли, которые и стали второй родиной киданей-изгнанников. Кара-кидани заняли пространство от Алтая до Памира — пограничную полосу между восточной и западной половинами Великой степи. На западе они граничили уже с западными кочевниками-тюрками: канглами, карлуками и кыпчаками, которых на Руси звали половцами. И до 1211 года чувствовали себя вполне уверенно, пока не столкнулись с бежавшими от непобедимых туменов Чингисхана меркитами и найманами.
И здесь, чтобы окончательно замкнуть то, что современные историки довольно метко назвали «монголосферой», нам осталось рассказать о нескольких народах, живших к северо-западу от собственно Монголии. Крупнейшим из этих народов были найманы.
Найманы — вообще один из самых таинственных народов. Мы не знаем, на каком языке они говорили, хотя, предположительно, это был один из диалектов монгольского. Нам известно, что у них была высокоразвитая культура (пожалуй, едва ли не самая развитая среди степных народов) и сильное государство, но при этом мы не можем обнаружить никаких предпосылок к этому, ведь окружали Найманское ханство кочевые племена с родовым строем и находящиеся на куда более низкой стадии развития. Поэтому высказываются самые разные версии происхождения найманов и их государства. Часть историков, вслед за великим Л.Н. Гумилевым, считает их северной ветвью кара-киданей, отказавшейся подчиняться Елюю Даши и ушедшей в алтайские степи. Есть мнение, что на культуру найманов оказали влияние енисейские кыргызы — не менее загадочный народ, изолированно проживавший на Енисее в районе Минусинской котловины и занимавшийся по преимуществу земледелием. Найманы также овладели земледелием, и это сильно отличало их от других кочевых племен. Земледелие требует хотя бы частичной оседлости, что резко снижает мобильность народа-войска. В то же время оно позволяет прокормить гораздо большее количество людей, чем кочевое скотоводство и дать, соответственно, куда больше солдат в это самое войско — что, собственно, мы и отмечаем у найманов. Но в целом номадизм как образ жизни и у найманов остается на первом месте, и в результате складывается довольно странный, почти равноправный симбиоз земледельцев и скотоводов, который не встречается у других степных племен. Даже кара-кидани, несмотря на всю усвоенную ими китайскую культуру, уйдя в степи, отказались от земледелия и перешли к кочевому образу жизни. Так что найманы и по сей день остаются загадкой.
А теперь, чтобы завершить обзор дальних и ближних соседей монголов, отметим еще небольшую, но важную группу племен, проживавших между Енисеем и озером Байкал, а частью и в Забайкалье. Это лесные охотники, обитавшие на границе между сибирской тайгой и Великой степью. Крупнейшие из них, хори-туматы и баргуты, относились, по-видимому, к монгольской языковой группе, но по образу жизни резко отличались от монголов. Несмотря на общность происхождения, монголы и те же хори-туматы отказывались признавать свое этническое единство: слишком уж отличалась их культура (а ведь, заметим, сама праматерь монголов, Алан-Гоа, формально была родом из хори-туматов, о чем, кстати, монголы не очень любили вспоминать). Каждый из народов считал свой образ жизни единственно правильным, а соседей — отсталыми. И потому отношения лесных и степных монгольских племен были довольно-таки натянутыми, пока не закончились разгромом и покорением лесовиков (хори-туматы при этом были почти полностью уничтожены). Степные монголы одержали победу, доказав тем самым своим «идеологическим» противникам преимущества истинно монгольского образа жизни. Так что же представляла собой эта «истинно монгольская» жизнь? Об этом — в следующей главе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу