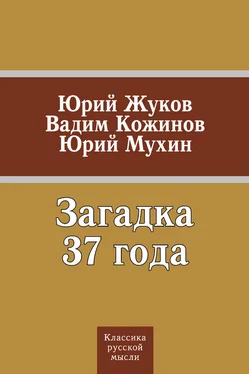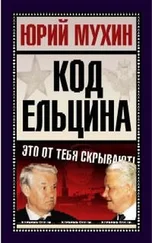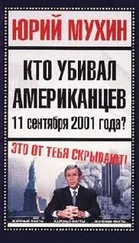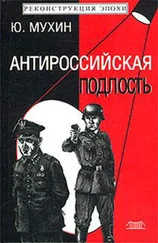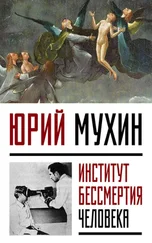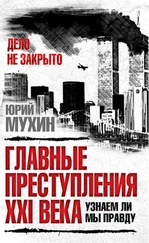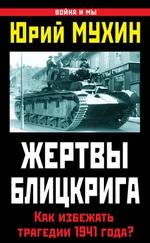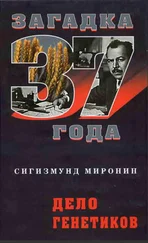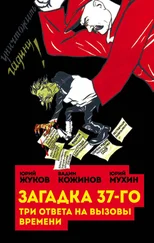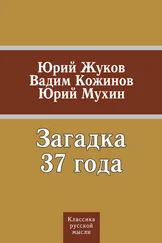И, наконец, еще одно суждение Шульгина о русском народе, которое, без сомнения, трудно принять, но и столь же трудно опровергнуть: «Сняв самому себе голову (то есть русскую власть и, отчасти, культуру. — В.К. ), он теперь бесится, что сие совершил…» Но «ежели русскую голову этот народ сам себе «оттяпал», то «жиды», пожалуй, даже услугу оказали, что собственную свою еврейскую голову ему на время приставили: совсем без головы еще хуже было бы!», — громадное безголовое тело напрочь разбило бы себя в нескончаемых «пугачевщинах»…
* * *
Итак, Василий Витальевич, прошедший весь крестный путь Белой армии, признает, что большевистская — во многом «еврейская» — власть все же «лучше» безвластия, и, кроме того, вообще не видит другой силы, которая в тогдашних условиях могла бы восстановить государственность. Целесообразно напомнить и точные характеристики самого состояния России после Февральского переворота — характеристики, которые согласно сформулировали совершенно разные люди, — гениальный «черносотенный» мыслитель В.В. Розанов: «Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска… Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего», — и влиятельный сподвижник Керенского В.Б. Станкевич: «стихийное движение» русского народа, «сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений».
И восстановить власть «на пустом месте» можно было только посредством самого жестокого насилия и, как оказалось, при громадной и, более того, необходимой роли «чужаков», способных «идти до конца»… Словом, есть все основания согласиться с приведенными суждениями В.В. Шульгина.
Вместе с тем нельзя, конечно, не видеть, что восстановление власти «чужаками» имело свою тяжелейшую «оборотную» сторону: они ничего не щадили в так или иначе чуждом им русском бытии, они подавляли и то, что вовсе не обязательно нужно было подавлять… И это уже в первые послереволюционные годы вызывало решительное сопротивление даже в тех кругах, которые всецело поддерживали дело Октября…
Нельзя также не видеть, что власть «чужаков» являла собой тогда своего рода фатальную необходимость, которая столь резко обнаруживается в составе верховного органа — Политбюро ЦК, где к концу гражданской войны числились, помимо Ленина, три еврея и один грузин… И несколько неожиданное введение в Политбюро в апреле 1922 года, — когда война уже закончилась, — русских Рыкова и Томского опять-таки очень показательно.
А в конце 1922-го — начале 1923 года Ленин попытался совершить своего рода переворот, — о чем недвусмысленно свидетельствуют его тексты, обращенные им к XII съезду партии, который был намечен на апрель, и впоследствии названные «политическим завещанием» Ленина. Как ни странно (и прискорбно), почти все «аналитики» этого завещания, полностью завороженные «проблемой Сталина», ухитрились заметить в этих ленинских текстах, в сущности, только одну, имеющую в конечном счете частное значение деталь — предложение «переместить» одного человека с поста генсека.
Между тем Ленин начал свое «завещание» так (цитирую по 45-му тому Полного собрания сочинений, указывая в скобках страницы): «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе» (с. 343). Да, ни много ни мало — изменение самого «политического строя» (!). И конкретизирует: «В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни» (там же; в ЦК тогда было всего 27 человек). При этом, — как неоднократно затем подчеркнул Ленин, — в новый ЦК должны войти рабочие и крестьяне, «стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян…» (с. 348). «Я предлагаю съезду выбрать 75—100… рабочих и крестьян… выбранные должны будут пользоваться всеми правами членов ЦК» (с. 384).
В ЦК состояло, как говорилось, 27 человек, и присоединение к ним 75—100 рабочих и крестьян означало бы, что четыре пятых членов ЦК оказались бы людьми из народа в прямом смысле этого слова.
У нас нет никаких сведений о том, что Ленин ставил тем самым задачу изменить национальный состав высшей власти. Он определял цель предлагаемого политического акта как обращение «за поисками новых сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей диктатуры» (с. 383), и установление «связи с действительно широкими массами » (с. 384. Выделено мною. — В.К. ).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу