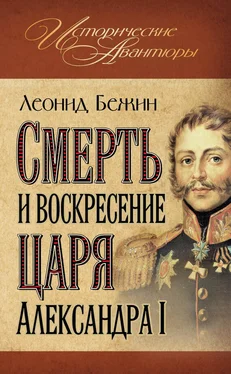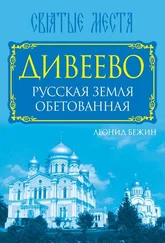Признаться, мы приуныли, услышав такой ответ, и потянуло на нас сиротским холодком невезения. Холодком, от которого особенно зябко в чужом городе. Трамвай же ходко бежал по рельсам, безучастный к нашему унынию, и тут мы увидели из окон другой музей, о котором вовсе и не помышляли, – градостроительства и архитектуры. Другой – и тоже безучастный к нашим устремлениям, как бегущий по рельсам трамвай; ну что там может быть связано с Александром! Он же тут не градостроительством занимался, а переживал духовную драму – драму самоотречения! Вырывался из пут! Но день клонился к вечеру, деваться было некуда, и мы решили на всякий случай зайти. Зайти и спросить – а вдруг? Не повезло с одним музеем – повезет с другим: фортуна особа капризная и изменчивая. И какой-нибудь дремлющий в кресле старичок-смотритель или сторож со связкой ключей, глядишь, посоветует, подскажет, наведет на след – бывает…
И мы зашли: здравствуйте… мы такие-то и такие-то… хотели бы узнать… Александр I… в Таганроге… какие-то вещи… И вдруг – я могу поручиться! – комнату озарило неким нездешним сиянием (отблески его легли на наши лица), и нам ответили: да, да, сохранились подлинные вещи Александра I из его путевого дворца. Вот, пожалуйста, они выставлены в соседнем зале нашего музея. Словно бы вас-то и дожидаются.
Мы бросились в соседний зал: неужели?! Подлинные… из путевого дворца?! И действительно, на музейных подиумах стояли замечательные, старинные, распространяющие вокруг себя некую благоуханную ауру, создающие атмосферу изящества, благородства и тонкого вкуса, я бы даже сказал звучащие, музыкально согласованные друг с другом, насколько способны звучать в едином строе, вещи: лаковый овальный столик на выгнутых ножках, кресло с украшенными резьбой подлокотниками, секретер с откинутой крышкой, голубая ваза, подсвечники и прочие мелкие предметы, настольные безделушки. Мелкие, но ведь каким-то образом уцелели, не сгинули, и вот они теперь передо мной. Признаться, меня охватил зябкий, недоверчивый восторг: вещи Александра! Те самые, которые он брал в руки, – вот они… И я тоже могу прикоснуться! Воспользоваться тем, что в зале нет смотрителя, и прикоснуться, потрогать, погладить рукой – подлинные… Потрогать и ощутить его касание – с той, запредельной, зазеркальной стороны. Я протягиваю руку, и с той стороны – он. Протягиваю, и подушечки наших пальцев…
Одним словом, вещи в моем сознании приобрели образ человека, и из воздуха – тончайших эфирных нитей – соткалось, возникло, обозначилось: тонкие выпуклые губы, чуть затуманенный взгляд красивых голубых глаз…
Впрочем, здесь он был уже не тот, что под Аустерлицем, – гораздо старше, ближе к портрету, написанному Мережковским (таким его видит дочь Софья): «Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий, раздвоенный подбородок, и гладкий, плешивый лоб с остатками белокурых, вьющихся волос, начесанных кверху; и между нависшими бровями морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклоненные вперед; и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками».
Да, портрет замечательный (как и весь роман в целом), скульптурно вылепленный, проработанный, описание очень точное. Но в выражении лица Александра и тогда оставалась эта немецкая мечтательность, шиллеровская сентиментальность и нечто неуловимо женственное, безвольное, ускользающе-скрытое, заставившее Пушкина сказать: «…слабый и лукавый…» Все-таки лукавый, хотя Мережковский это как будто отрицает («улыбка не лукавая», но ведь это – глазами дочери!). Пушкин, конечно, угадал, хотя и выразил свою догадку в форме беспощадной эпиграммы. Если же снять иронию и довериться психологии – действительно слабый и лукавый… Можно даже добавить: двойственный, вечно сомневающийся в себе и других, недоверчивый – целый набор черт, свидетельствующих не о достоинствах или недостатках, а о сложности душевного устройства. И эти вещи – тоже часть портрета. Прихотливо разбросанные в пространстве, они доносят нечто невыразимо александровское, свойственное только ему, его непередаваемой самости: овальный столик – могучую стать высокой фигуры; подлокотники кресла – напряжение сильных ладоней, накрывающих резных крылатых львов; подсвечники – очертания склоненной в задумчивости головы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу