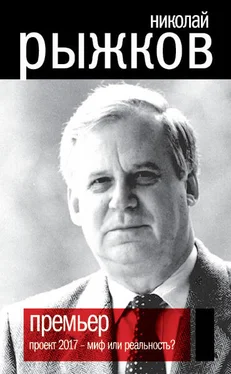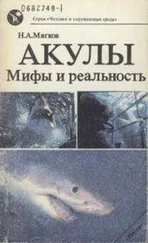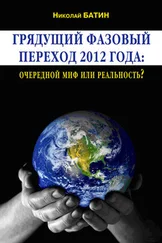Наш с женой близкий друг, прекрасный русский поэт-свердловчанин, ныне покойный Лев Сорокин написал когда-то:
Боль свою можно годами носить, кто принесет утешенье? Больше всего не люблю я просить — в просьбе всегда унижение.
В просьбе всегда унижение? Может быть, по большому счету, это и так. Но есть просьбы, естественные, как дыханье: просьбы больного к врачу, ребенка — к матери, человека — ко Всевышнему. И доведись мне обратиться к Богу с единственной просьбой, умолил бы его спасти нас от ненависти! Сколько же она поломала планов, судеб, жизней! Сколько еще поломает…
Каждый год моей работы в качестве Председателя Совета Министров СССР памятен мне по-своему: надеждами и трагедиями, пережитыми со всей страной, успехами на одних участках деятельности и невозможностью переломить, улучшить ход событий на других. По-своему — на всю жизнь! — мне памятен и 1989-й, внешне совсем неприметный год, ничем вроде бы не выделявшийся из череды предшествующих. Но именно этот год стал началом крушения всех моих надежд и как гражданина, и как премьера страны.
Но — по порядку.
Я уже писал о том, что к концу 1987 года новая система управления народным хозяйством, давно и упорно разрабатываемая нами, проверенная широкомасштабным экспериментом, окончательно перешла из теоретической в практическую сферу, в жизнь. На весьма прогрессивных для того времени условиях самофинансирования работали предприятия, выпускающие 60 процентов всей промышленной и сельскохозяйственной продукции, и примерно половина всех предприятий сферы обслуживания.
В довольно бурно нарождающейся кооперации работало более миллиона человек. Закон о ней был принят на сессии Верховного Совета СССР в мае 1988 года. Это был новый шаг по реформированию экономики после принятия годом раньше закона о госпредприятии.
Основной упор и в проекте Закона, который был опубликован во всех газетах, и в моем докладе на сессии был сделан на кооперацию в сфере производства и услуг. По данным Госкомстата СССР, неудовлетворенный спрос на промышленные товары народного потребления в то время оценивался более чем в 30 миллиардов рублей, а в сфере услуг, оказываемых государственными предприятиями, — примерно в 15 миллиардов. Стояла задача с помощью делового сотрудничества разветвленной сети кооперации с государственным сектором экономики решить эту проблему.
В моем представлении государственные предприятия — глыбы, а пространства между ними и должны были заполняться мелкими производственными и кооперативными предприятиями сферы услуг.
В последние перед тем годы вокруг кооперации было много всевозможных теоретических дискуссий и обывательских пересудов. Некоторые ученые считали, что наши предложения есть отход от социалистических идей. Утверждалось, что вся собственность при социализме должна быть в руках государства и что толкование известной статьи Ленина «О кооперации» является ошибочным. В этом нужно было разобраться как следует, ибо ни я, ни мои соратники не помышляли отходить от социалистических принципов. И к проработке теоретических основ кооперации, к анализу ее роли и потенциала в современных условиях были привлечены лучшие ученые-экономисты и специалисты по кооперативному движению.
Были рассмотрены взгляды Ленина с конца 1918 года, когда он говорил о непременном слиянии кооперации с Советской властью, и до его знаменитого тезиса: «Кооперация в наших условиях сплошь да рядом совпадает с социализмом», выдвинутого в начале 1923 года. За это время Советская власть окрепла, победила в гражданской войне. Контроль государства над этой формой экономических отношений был обеспечен, а через 65 лет — тем более. Между тем споры о том, что, защищая идею кооперации, Ленин, по сути дела, пересмотрел некоторые принципиальные вопросы построения социализма, не утихали. Ну спрашивается, неужели ради красного словца было сказано: «…мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»?
Усиление позиций кооперации в экономике означало развитие в стране разных форм собственности и управления. Кооперативное движение, дополняющее мощный, но не очень гибкий государственный сектор экономики, стало все активнее утверждать себя. Но тут само понятие «кооператор» вдруг приобрело явно негативный характер в сознании общественности, что, на мой взгляд, вызвано следующим.
Первое. Для быстрого формирования кооперативного сектора были установлены весьма льготные налоги, существенно отличавшиеся от налогов на государственные предприятия. Экономическая свобода в кооперативах позволяла платить зарплату более высокую, нежели на госпредприятиях. И многие их руководители стали на своих заводах создавать кооперативы, которые использовали средства производства, принадлежащие государству, выпускали зачастую ту же самую продукцию, но при совершенно иных экономических взаимоотношениях с ним. Фактически стало происходить переплетение, перемешивание собственности и управления, что вызывало массу осложнений в кадровой политике, в психологии трудовых коллективов, во многом криминализировало обстановку и т. д. Попытки же запретить подобную практику встретили шквал критики и в прессе, и в уже новом парламенте. Лоббизм начинал набирать силу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу