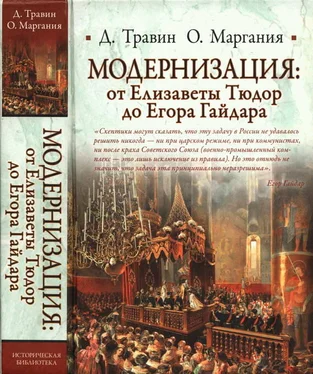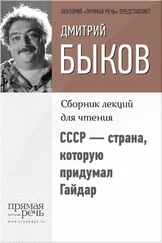Наверное, Пленер, как государственный деятель, может уже считаться одним из типичных реформаторов-технократов, которых в изобилии дал нам XX век. Он похож в данном смысле и на Егора Гайдара, и на Лешека Бальцеровича. В нем уже не было никакой романтики XVIII-XIX веков, никакого «реформаторского аристократизма», присущего Тюрго, Штейну или Гарденбергу, никакого авторитарного напора, отличавшего Иосифа или Наполеона.
Начало 60-х гг. было периодом зарождающегося, сравнительно ограниченного австрийского конституционализма, и Пленер оказался вполне адекватен этой системе. Он настаивал на том, что вся финансовая деятельность империи должна быть поставлена под контроль органа представительной власти, каковым очень трудно было стать выстроенному под интересы монарха и бюрократии рейхсрату.
Тем не менее благодаря деятельности Пленера император обещал не повышать налоги и не прибегать к новым займам без согласия парламентариев. Австрийская империя приближалась к той ограниченной, но все же реально существовавшей системе общественного контроля за финансами, которая функционировала во Франции при Наполеоне III. Но даже демократизация управления финансами не смогла обеспечить решение стоящих перед страной проблем, поскольку ответственные политики все еще оставались в меньшинстве, а общество не было способно к осуществлению реального контроля.
В первой половине 60-х гг. история 50-х повторилась на удивление точно. Пленер сумел резко сократить государственные расходы. В частности, военный бюджет уменьшился с 1860 по 1863 г. на треть, что улучшило состояние госбюджета в целом. Добиться такого результата в то время было особенно трудно, поскольку монархия теряла свои наиболее доходные земли. Ломбардия и Венеция отошли к новообразованному Итальянскому королевству, тогда как слаборазвитые территории оставались в составе Австрийского государства.
Но в 1866 г. война с Пруссией нанесла очередной удар по государственному бюджету. Правительство не придумало ничего лучшего, нежели вновь прибегнуть к эмиссии государственных ассигнаций, от которых обещали навсегда отказаться еще за полстолетия до этого.
В итоге относительно стабилизировать австрийский бюджет удалось только в 1889 г. новому министру финансов поляку Юлиану Дунаевскому. Он был профессором Краковского университета и ярким представителем так называемой краковской политической доктрины. Суть ее состояла в обосновании необходимости мирного развития польских земель в составе Австро-Венгрии. Неудивительно, что сторонники данной доктрины делали успешную карьеру в рядах австрийской бюрократии, примером чего как раз и является деятельность Дунаевского.
Последний монарх старой школы
Говоря о непосредственных авторах экономических преобразований, нельзя упустить из виду фигуру главного политического деятеля, от которого в основном зависели успехи и неудачи реформ. Модернизирующаяся империя стала во второй половине XIX — начале XX столетия своеобразной «землей Франца Иосифа».
Франц Иосиф был честным, порядочным человеком, хорошо образованным (он знал все основные языки своей империи — итальянский, венгерский, чешский, а кроме того, французский), хотя звезд с неба не хватал и к своей семидесятилетней государственной деятельности вряд ли был хорошо подготовлен. Им руководила «одна, но пламенная страсть» — сохранение и укрепление династии. Ради этого он не жалел сил на укрепление армии и на поддержание международного престижа монархии. Ему трудно было понять, что для выживания требуется совсем иное.
Необходимость осуществления серьезных преобразований он постигал с большим трудом, обучаясь на ошибках, повторявшихся порой по несколько раз. Поэтому ему так и не удалось сохранить ни монархию, ни династию, хотя попутным результатом осуществлявшейся им политики все же стала относительно модернизированная страна. По иронии судьбы император сделал для потомков совсем не то, за что он всю жизнь боролся и что считал главным в жизни.
Франц Иосиф соединил в своем имени имена двух императоров, являвшихся его предшественниками, причем имя Иосифа он взял по совету князя Шварценберга уже при восшествии на престол, чтобы подчеркнуть преемственность своего курса реформ именно по отношению к курсу, осуществлявшемуся в свое время этим выдающимся государственным деятелем прошлого. Но, как писал один историк, «в нем не было ничего от Иосифа II, кроме его имени <���…> Как и Франц, он был трудолюбивым бюрократом, для которого оставалось вечной загадкой, почему нельзя управлять империей, просиживая по восемь часов в день за письменным столом, трудясь над документами».
Читать дальше