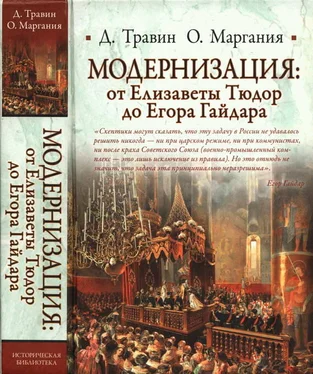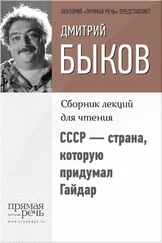Позднейшим дополнением к континентальной блокаде стало принятое в 1810 г. решение о резком повышение таможенных тарифов на колониальные товары с тем, чтобы окончательно добить ненавистных англичан. С формальной точки зрения положение последних было безнадежно. Однако на практике в гораздо более тяжелой ситуации оказалась Франция. Законы рынка, основанные на стремлении людей к свободе, доказали, что они сильнее воли императора.
Уже в октябре 1809 г. в Министерстве иностранных дел констатировали самые безотрадные для Франции результаты применения политики континентальной блокады и настойчиво указывали на сильное вздорожание товаров. Дело в том, что национальная промышленность не смогла полностью заменить изгнанный императором импорт. Конкуренция сократилась, и цены выросли.
После того как Наполеон нанес удар по колониальным товарам, положение французов еще более ухудшилось. Как докладывал императору министр внутренних дел в середине 1810 г., «Франция теперь потребляет, несомненно, несравненно меньше колониальных товаров, чем прежде, но платит за них она настолько больше, что даже абсолютно сумма, истрачиваемая на покупку колониальных товаров, почти та же, что тратилась прежде».
Несли ли потери наряду с французами и англичане? Наверное, да. Однако у них нашлось множество лазеек для того, чтобы обойти континентальную блокаду.
Во-первых, хотя формально весь континент дрожал перед Наполеоном и клялся ему в верности, практически нигде в Европе не соблюдали блокаду столь строго, как в самой Франции. Об этом, например, свидетельствуют цены на сахар. Если в Париже фунт сахара стоил в 1812 г. 5 франков, то в Лейпциге и Франкфурте — лишь 2,5. Иначе говоря, предложение в этих городах было значительно более широким, скорее всего за счет обхода таможни.
Во-вторых, негласный бойкот континентальной блокаде объявили не только подчиненные Наполеоном народы, но и сами практичные французы, стремившиеся всегда купить товар подешевле. Поэтому контрабандистам часто даже не приходилось подделывать штемпели, используемые чиновниками для обозначения национальной продукции, разрешенной для продажи. Население втайне от контролеров с радостью приобретало товары без штемпеля.
В-третьих, постепенно сам Наполеон вынужден был отступать от им же сформулированных жестких правил. Уже с 1810 г. он стал все чаще допускать выдачу так называемых лицензий, позволяющих определенному лицу привезти из Англии определенное количество товаров с обязательством вывезти из империи на том же корабле эквивалентный объем продукции согласно специально согласованному с чиновниками списку. Подобные вольности давали дополнительный доход французской казне (за счет взимания таможенных пошлин), что в период ведения напряженных войн было для Наполеона чрезвычайно важно, а потому высокие принципы протекционизма были нарушены.
Однако любое исключение из правил сразу порождает массу возможностей для многочисленных злоупотреблений. Коммерсанты привозили дорогие английские товары и вывозили из Франции всякий дешевый хлам, давая чиновникам взятки за признание «истинной ценности» этого груза. Затем хлам сбрасывался в море, поскольку англичане Наполеона «в упор не видели» и французские товары к себе не пускали. Для обеспечения большей стабильности торговых связей в Лондоне даже возникла целая сеть контор, подделывающих наполеоновские лицензии.
Рост цен, вызванный континентальной блокадой и ограничением иностранной конкуренции, стал одной из важнейших причин широкомасштабного экономического кризиса, поразившего французскую экономику в 1810-1811 гг. Издержки производства выросли, спрос (в связи с военными бедствиями и обнищанием) сократился. Товары стало трудно реализовывать.
Трудности сбыта подвигли Наполеона на еще большее усиление государственного вмешательства в экономику. Он стал давать субсидии и льготные кредиты предприятиям, страдающим от отсутствия спроса. Однако, как всегда бывает в подобных случаях, реальный результат государственной поддержки был далек от ожидаемого.
Очень характерен в этой связи случай, относящийся еще к 1807 г. 27 марта Наполеон издал декрет, согласно которому ассигновывались крупные суммы на поддержку французских мануфактур. Заключение о том, кто был достоин получения кредита, давали префекты, а окончательное решение принимал министр внутренних дел. В итоге 25 промышленников получили от государства в общей сложности порядка 1,2 млн. франков. Залогом служили непроданные товары, которые по стоимости должны были на треть превосходить сумму кредита.
Читать дальше