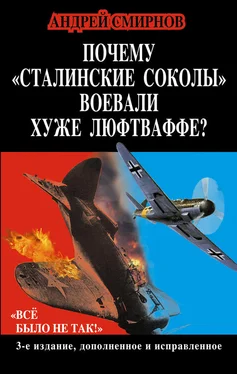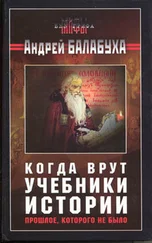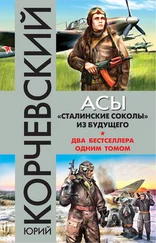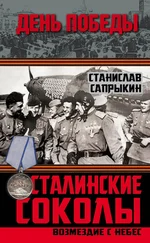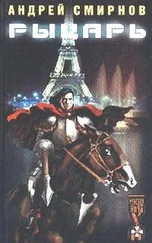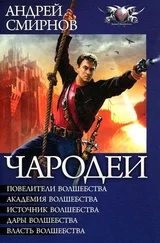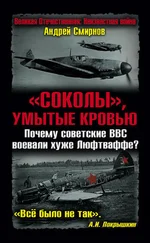Можно указать и на ту же Курскую битву. Оценивая работу истребителей 2-й воздушной армии Воронежского фронта на оборонительном этапе сражения (5—23 июля 1943 г.), заместитель начальника штаба ВВС Красной Армии Н.И. Кроленко в своем распоряжении от 29 июля констатировал, что «в ходе боев имелись случаи, когда наши истребители находились не в тех зонах, где требовала обстановка, не искали противника, действовали пассивно или попросту утюжили воздух». А в результате «отдельные группы бомбардировщиков получали возможность безнаказанно бомбить наши наземные войска»35. То же отмечал и анализировавший действия войск Воронежского фронта в оборонительной операции на Курской дуге старший офицер Генштаба при этом объединении полковник М.Н. Костин. Истребительная авиация 2-й воздушной, указывал он в своем докладе от 23 августа 1943 г., «позволяла бомбардировочной авиации противника организованно бомбардировать наши боевые порядки войск. Причина заключается в том, что наши истребители выполняли чисто пассивные задачи – прикрытие района расположения наших войск, патрулирование и непосредственное сопровождение штурмовиков, а активных боевых задач истребительная авиация не выполняла»36. Хуже того, увлечение методом воздушного патрулирования не позволило и нанести мощные бомбовые удары по войскам противника! Перестраховавшись, на патрулирование бросили столько истребителей, что для сопровождения бомбардировщиков их уже не хватило – и бомбардировщики 2-й воздушной (Пе-1 2-го бомбардировочного авиакорпуса) в самые тяжелые дни сражения, 6—11 июля, в бой не вводились…
Еще ярче неумение советского командования использовать свою многочисленную истребительную авиацию высветилось в оборонительных боях на северном фасе Курской дуги. Здесь 5 июля 1943 г. сложилась парадоксальная ситуация, когда 186 немецких истребителей оказалось достаточно для того чтобы создать, по оценке советской стороны, «в воздухе мощную завесу» перед своими бомбардировщиками и терроризировать советские штурмовики, – а 386 боеготовых летчиков-истребителей и 455 исправных «ястребков» 16-й воздушной армии Центрального фронта не хватило ни для того чтобы нейтрализовать немецкие бомбовозы, ни для того чтобы обеспечить прикрытие своих штурмовиков!37 Советское командование и тут распылило свои силы, заставив часть истребителей барражировать над районами, которым с воздуха никто не угрожал (например, над маршрутами, по которым в район боев выдвигалась 2-я танковая армия). Немцы же все свои немногочисленные истребители бросили в район главного удара своих войск – район, по которому должны были работать их бомбардировщики, – чтобы целенаправленно искать советские истребители и уничтожать их еще на подходе к полю боя. В итоге, по свидетельству старшего офицера Генштаба при Центральном фронте полковника В.Т. Фомина, «бомбардировочная и штурмовая авиация противника […] производила бомбардировку и обстрел наших боевых порядков на всю тактическую глубину […]»38.
А ведь еще 14 мая 1943 г. первый заместитель командующего ВВС Красной Армии Г.А. Ворожейкин напоминал командармам 2-й и 16-й воздушных: «Опыт показывает, что обычно все воздушные бои протекают на решающих направлениях действий наших наземных войск…»39
Ничего не изменилось и на наступательном этапе Курской битвы, в Орловской операции. Так, 16 июля 1943 г. немецкие бомбардировщики целый день безнаказанно бомбили 1-й танковый корпус 11-й гвардейской армии Западного фронта. Дело в том, что истребители 1-й воздушной армии, выделенные для прикрытия корпуса с воздуха, опять-таки имели задачу не расчищать воздушное пространство на пути наступления танкистов, а патрулировать над определенными районами; в данном случае – над районом, в который корпус, согласно плану операции, должен был выйти к 16-му числу. Поэтому весь этот день они безо всякой пользы «утюжили воздух» над окрестностями станции Хотынец – а задержавшиеся на пути к ней танкисты оказались без прикрытия… Самолеты 2-го истребительного авиакорпуса (входившего в июле – августе 1943 г. в состав сначала 1-й воздушной армии Западного, а затем 15-й воздушной армии Брянского фронта) за Орловскую операцию выполнили 4100 самолето-вылетов – но воздушные бои с противником велись лишь в 989 из них40, т. е. менее чем в 25 %. При таком использовании истребителей, резонно отмечал в докладе И.В. Сталину от 26 июля 1943 г. представитель Ставки Верховного главнокомандования на Западном, Брянском и Центральном фронтах Н.Н. Воронов, «вопросом первостепенной важности является количество нашей истребительной авиации». По мнению Воронова, в Орловской операции «мы должны были иметь для трех фронтов до 1000 самолетов-истребителей»41 – вдвое больше, чем было у немцев на всем советско-германском фронте!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу