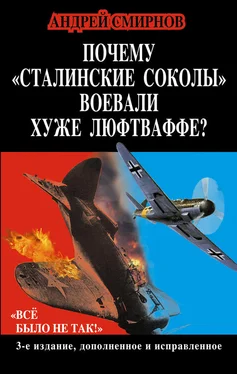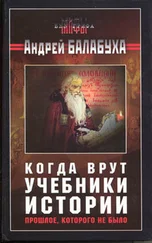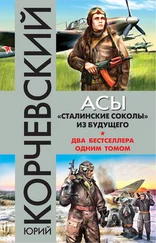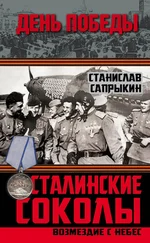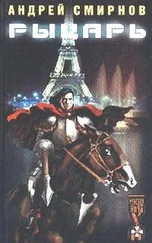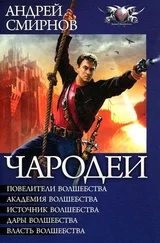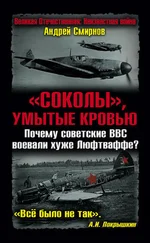Да и не только асов. Так, по данным А.В. Исаева, число побед, заявленных 22–30 июня 1941 г. дравшимися над Волынью пилотами 3-й истребительной эскадры люфтваффе, «хорошо стыкуется» с данными отчетности ВВС Юго-Западного фронта о потерях, понесенных в этот период в воздушных боях183. Для официальных цифр советских воздушных побед за сопоставимые отрезки времени на сопоставимых по величине участках театра военных действий таких «хороших стыковок» с данными противника пока не обнаружено…
То, что советская сторона завышала число побед своих летчиков-истребителей сильнее, чем немецкая, вполне объяснимо. Из предыдущего изложения видно, что советская практика засчитывания воздушных побед отличалась не большей (как утверждают Н.Г. Бодрихин, Г.Ф. Корнюхин и ряд других авторов184), а меньшей требовательностью к наличию подтверждений доклада летчика о сбитом им самолете. Если в люфтваффе строго соблюдалось хотя бы требование о представлении свидетельств других участников воздушного боя, то в советских ВВС зачастую обходились вообще без каких бы то ни было подтверждений!
Кроме того, есть основания полагать, что подтверждения воздушных побед, сделанные свидетелями-летчиками, в люфтваффе оказывались ложными реже, чем в советских ВВС. Ведь, во-первых, у немцев на ведомого пары истребителей чуть ли не официально возлагалась обязанность не только прикрывать ведущего, но и визуально фиксировать одержанные тем победы; и сами ведомые, и их ведущие относились к этому чрезвычайно серьезно! Так, известный ас В. Новотны из I группы 54-й истребительной эскадры, открывая огонь, неизменно произносил: «Осторожно!» – чтобы ведомый успел сосредоточить свое внимание на атакуемом Новотны самолете185. А ведомый еще более знаменитого Х.-Й. Марселя из I группы 27-й истребительной эскадры – Р. Пёттген – иногда вообще не сопровождал ведущего во время атаки, а кружил в стороне и занимался исключительно наблюдением за результатами стрельбы Марселя. О том, что ведомый – это еще и контролер, не забывали и менее именитые пилоты. Вот, к примеру, воспоминания бывшего летчика II группы 54-й истребительной эскадры Н. Ханнига о воздушном бое, который происходил в начале мая 1943 г. в районе Шлиссельбурга и в котором фенрих Ханниг летел ведомым у обер-фельдфебеля К. Мюллера. «Короткая очередь – и ЛаГГ-3 взрывается. Я подтверждаю победу Ксавьера [Мюллера. – А.С .]. «Твоя очередь, я прикрою», – ответил он. […] Мое оружие грохочет. […] Из фюзеляжа «ивана» потянулась полоса черного дыма. «Он все еще летит. Сделай еще один заход, – советует Ксавьер»186. Как видим, и ведущий при возможности целенаправленно наблюдал за результатами стрельбы напарника.
Во-вторых, немецкие ведомые (да и другие пилоты-свидетели), как правило, находились в более благоприятных для наблюдения условиях, чем советские. В конечном счете это обуславливалось превосходством немецких пилотов над большинством советских в выучке, а также тем, что немецким истребителем в бою было удобнее управлять, чем советским (подробнее о том и другом будет рассказано в главе II). Так, лучше владея машиной, немцы, несомненно, могли уделять в бою меньше внимания пилотированию и больше – наблюдению за воздухом (тем более что многие действия пилота по управлению двигателем и винтом на немецких истребителях брала на себя автоматика). Лучше подготовленным немецким пилотам было, безусловно, легче успевать и прикрывать ведущего, и фиксировать результаты его стрельбы. Показателен рассказ унтер-офицера А. Морса из II группы 5-й истребительной эскадры о воздушном бое, который произошел 27 сентября 1942 г. в районе аэродрома Шонгуй под Мурманском и в котором рассказчик был ведомым в паре лейтенанта Т. Вайсенбергера. «[…] Вайсенбергер, – подробно повествует Морс, – на высоте 2500 метров берет в прицел третий «харрикейн», не успел нажать на гашетку, русский летчик бросает самолет в левый разворот, но и «желтая 4» Вайсенбергера не отстает, 20-мм снаряд ударяет с 50 метров, у «харрикейна» отлетает оперение, «месссершмитт» продолжает преследовать его, пока он не врезается вертикально в землю. Смотрю на часы – 15.51, место – 9 километров южнее Шонгуя»187. Трудно представить, что недавно прибывший на фронт летчик смог столько увидеть в гуще боя и даже успевал фиксировать время и место падения сбитых самолетов. Однако вероятность того, что Морс ошибся в определении судьбы «третьего «харрикейна», составляет всего 20 %! Ведь, согласно советским документам, из пяти самолетов, о сбитии которых в этом бою заявили немцы, четыре (два «Харрикейна» из 837-го и два «киттихаука» из 20-го гвардейского истребительных авиаполков ВВС 14-й армии Карелльского фронта) действительно были сбиты188…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу