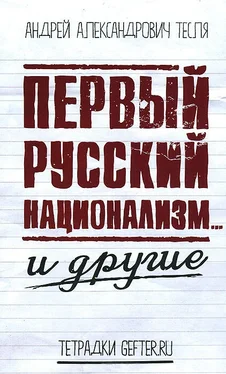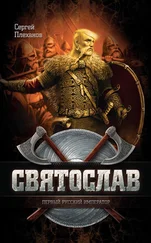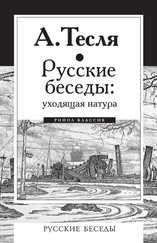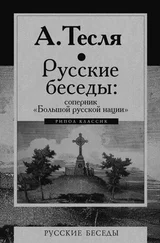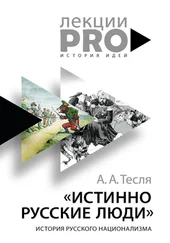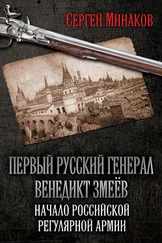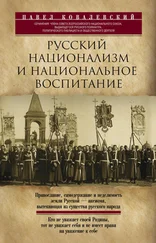Данная разновидность консерватизма рождается из одновременного осознания хрупкости и важности традиций и того факта, что традиции поддерживаются «местными сообществами», – они существуют только за счет того, что постоянно воспроизводятся. Отсюда и тезис об отсутствии универсальных рецептов и спасительных формул в политике – каждое общество решает собственные задачи, опираясь на свой опыт, свои традиции, свои устоявшиеся способы взаимодействия, поэтому то, что хорошо зарекомендовало себя в одной стране, не будет работать в другой или будет действовать совершенно иначе.
2. Если Бёрк – скептик, для которого первая заповедь в политике «не навреди», а политическое действие определяется как искусство возможного, а не достижения некой идеальной цели, для которого общество – это данность и основная задача, стоящая перед ним, выше любых других – самосохранение, то второй отец консерватизма, Жозеф де Местр, выступает едва ли не прямой его противоположностью. Власть для него – таинство, иррациональное, трансцендентное обществу, или, скорее, трансцендентальное – то, что не является социальным и через что социальное обретает существование. Здесь заявляется проблематика политического мышления, совершенно отсутствующая в горизонте XVIII века, к которому принадлежит Бёрк, – политика связывается с божественным, причем Всевышний проявляет себя в политике через необъяснимое, парадоксальное; это больше не Бог, который вносит смысл, – напротив, непостижимость как раз выступает знаком Его присутствия.
Для де Местра ближайшая к фигуре монарха особа – палач, который вовне общества и в то же время воплощает то, что позволяет обществу существовать, сплачивая его через насилие, изъятое из социального и в то же время присутствующее в нем: убийство, запрещенное в обществе, разрешено палачу, который является «законным убийцей», подобно тому как монарх осуществляет свое властвование, создает закон, сам будучи изъятым из сферы действия закона, – власть действует через предельное и запретное, через право преступать границу права и тем самым эту границу создавать. Если Гоббс, размышляя о суверене, строит предельно рациональную систему, то для де Местра основным феноменом выступает война с ее нерациональностью на уровне действия отдельных солдат; власть – это та сила, которая заставляет солдата жертвовать своей жизнью, подчиняясь, а не «ради чего-то», это то, что овладевает нами. Там же, где наше согласие исчерпывается рациональным, там нет общества, есть сделка, и если этот образ «общества купцов, заключающих договоры», кажется нам убедительным, то это либо слепота, либо нам довелось жить в счастливые времена, когда не обнажается природа власти.
Революционные и наполеоновские войны, первые нерелигиозные войны с сильной идеологической составляющей, вызвали в столкнувшихся с ними странах одновременно националистическую и консервативную реакцию (и, в частности, в Вене в период с 1805 по 1810 год привели к попыткам сочетать национальное движение и консерватизм – например, в форме «южного романтизма» Фридриха Шлегеля, чему пришел конец после 1810 года, когда правительство Меттерниха вполне разумно сочло для себя националистическое движение слишком опасным, чтобы ситуативно воспользоваться им как союзником). Разумеется, в чистом виде ни одна из названных форм консервативной реакции не получила распространения – однако тот импульс, который придали ей де Местр и мыслители той же группы, оказался в высшей степени продуктивным: происходит вторичная сакрализация монархий, возникновение «политического христианства» (в первую очередь – католичества, становящегося мощной политической силой с 1810—1820-х годов).
Идеология легитимизма, утвердившаяся после Венского конгресса, как и всякая компромиссная идеология, пыталась задействовать целую связку смыслов, внутренне противоречивых, – она позволяла одновременно использовать и логику репрезентации, и в то же время обновленную сакрализацию власти (не случайно с этого времени коронационные ритуалы получают широкое распространение и все большую значимость). Однако в основе легитимизма лежало признание права как самодостаточного основания – всякая существующая власть признавалась и подлежала охране, принцип легитимизма одинаково защищал абсолютную и конституционную монархию, христианскую власть и власть иноверческую; в силу этого принципа надлежало сохранять как польскую конституцию (до тех пор пока мятежники сами не нарушили ее), так и власть турецкого султана. Разумеется, в этом смысле консерватизм оказывался идеологией власти – но отнюдь не обязательно только ее, поскольку равным образом предоставлял идеологическую опору аристократии в ее сопротивлении становлению управления посредством бюрократического аппарата или местным общинам, которые в консерватизме находили основу для сохранения своих особых статусов в конфликте с государственной властью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу