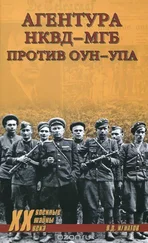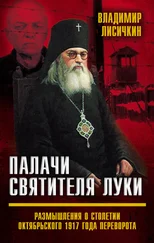Большое количество членовредителей, или, как их еще называли, «самострелов», было в годы Великой Отечественной войны. В начале войны широкое распространение получила «технология», когда самострелы простреливали себе руку или ногу, нанося не опасное для жизни ранение для того, чтобы быть отправленным в тыл. В докладе Главного военного прокурора Носова Сталину о преступности в Красной Армии за первые месяцы войны от 8 февраля 1942 г. говорится: «В декабре наблюдается большой рост осужденных за членовредительство. Это объясняется усилением борьбы и более умелым разоблачением членовредителей, но несомненно и то, что количество членовредителей возросло. Проведенные мероприятия по борьбе с дезертирством создали в массе мнение, что дезертирство безнаказанно не пройдет, поэтому малоустойчивые элементы стараются уклониться от участия в боях под видом ранения в бою. Членовредители прибегают в основном к самострелу. При этом характерно, что все возрастающее количество членовредителей прибегают к ухищренным способам самострела без признаков близкого выстрела, что, естественно, затрудняет их разоблачение. В частности, отмечены случаи членовредительства по взаимному сговору… В некоторых военных округах установлены многие факты, когда членовредители занимались курением чая и хмеля, впрыскиванием керосина под кожу и т. п…Существенным пробелом в борьбе с членовредительством является недостаточная подготовка врачебного состава санитарных учреждений, действующих на передовых позициях, к распознаванию более сложных форм членовредительства, вследствие чего получается запоздалое разоблачение членовредителей лишь в тыловых санитарных учреждениях, а зачастую членовредители и вовсе не разоблачаются…» (68).
С самострелами стали вести жестокую борьбу. Были разработаны специальные инструкции врачебному персоналу по опознаванию самострелов, где были указаны признаки их отличия от «нормального» ранения. При самостреле, обычно, стреляют на близком расстоянии или чаще в упор; поэтому около раны образуется ожог и заметны следы от газов, вырывающихся из дула оружия. По этим признакам и стали отличать самострелы. После серии разоблачений и суровых наказаний, во избежание попадания частиц пороха в рану и на кожу, самострельщики стали простреливать себе руки и ноги через мокрые тряпки или через кусок хлеба. Ожоги исчезли. Выяснив это, врачи стали определять самострел по траектории движения пули через тело человека, по отдельным деталям ранения. Самострельщики стали стрелять друг в друга с большего расстояния. Кроме «самострелов», для уклонения от боевых действий получили распространение и другие варианты членовредительства, такие как «попадание» ног под проезжающий транспорт, отрубание пальцев на правой руке самостоятельно или с помощью, подрывание запала от гранаты в руке и другие. Получили распространение также растравливание ран в госпиталях различными веществами с целью увеличения срока выздоровления, искусственная провокация и симуляция различных болезней и т. д.
Число самострелов особенно возрастало перед боями. Так, в мае 1942 г. число самострелов было вдвое выше, чем в июле 1941-го. На Северо-Западном фронте в мае 1942 г. было отмечено самострелов почти в девять раз больше, чем в январе того же года. Вследствие этого 18 июля 1942 г. Главный военный прокурор Красной Армии отдал приказ военным прокуратурам фронтов и отдельных армий применять в случае самострелов смертную казнь. После этого военные трибуналы приговаривали за самострел к расстрелу (69).
В октябре 1942 г. политотдел Сталинградского фронта доложил в Москву, что пораженческие настроения подавлены, и число переходов на сторону противника, дезертиров и самострелов значительно снизилось. За время Сталинградской битвы 13 500 военнослужащих были приговорены военными трибуналами к смертной казни. Расстреливали за отступление без приказа, за самострельные ранения, за дезертирство, за переход на сторону противника, мародерство и антисоветскую агитацию. Солдаты также считались виновными, если не открывали огонь по дезертиру или бойцу, пытавшемуся сдаться в плен.
Э. Бривор в книге «Сталинград» описывает случай, который произошел в конце сентября, когда немецкие танки своей броней прикрывали группу солдат, пожелавших сдаться в плен, так как с советской стороны на них обрушился массированный огонь. Показательна также судьба солдата, уроженца города Смоленска, который попал в плен в августе во время боев на Дону, но вскоре бежал. Когда он добрался до своих, то был арестован как предатель и отправлен в штрафной батальон, откуда уже по собственной воле перешел на сторону немцев. «Комиссары считали, что одна из причин дезертирства — безответственность и попустительство со стороны офицеров. Это было не совсем так. Во многих случаях офицеры, не задумываясь, использовали свое исключительное право расстреливать за неисполнение приказа или за отступление с поля боя. Часто и сами офицеры становились жертвами суровой дисциплины. Когда в ночь с 17 на 18 октября из 204-й стрелковой дивизии (64-я армия) исчезли двое солдат, полковое начальство приказало командиру батальона расстрелять лейтенанта — командира роты, из которой убежали солдаты. Лейтенант, девятнадцатилетний юноша, прибыл в полк всего пять дней назад и вряд ли даже знал в лицо тех двух дезертиров. Командир батальона вынужден был подчиниться приказу и в присутствии полкового комиссара расстрелял лейтенанта» (70).
Читать дальше
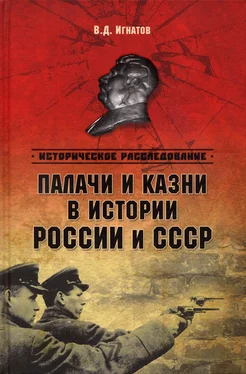

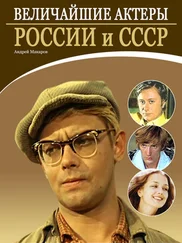


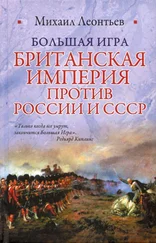

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)