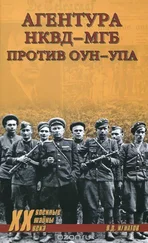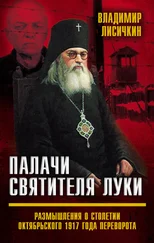В 1946–1948 гг. в СССР по Указу от 19 апреля 1943 г. было проведено несколько судебных процессов над бывшими советскими генералами, служившими в коллаборационистских формированиях, бывшими царскими генералами, гражданами СССР — пособниками фашистов и военнослужащими гитлеровской армии, уличенными в совершении убийств и истязаний на оккупированной территории.
В середине июля 1946 г. в Москве начался процесс над руководителями КОНР и РОА. По официальным заявлениям, каждый пункт обвинения и каждый эпизод «преступной деятельности обвиняемых» был тщательно изучен в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, подтвержден показаниями свидетелей и другими доказательствами. Предварительное следствие длилось 16 месяцев, по делу были опрошены 28 основных свидетелей, приняты во внимание показания еще 83 человек. Материалы следствия составили три объемистых тома.
Уголовное дело по обвинению Власова и других руководителей КОНР планировалось рассмотреть на открытом процессе в Октябрьском зале Дома Союзов, на котором советские люди должны были гневно заклеймить презренных предателей. Однако подсудимые проявили непривычное для сталинского следствия упорство, отстаивая свои политические взгляды. Поэтому начальник ГУКР «СМЕРШ» генерал-полковник В.С. Абакумов 26 апреля 1946 г. обратился к Сталину с письмом, в котором сообщил, что главным препятствием, не позволяющим провести открытый процесс, «стало поведение некоторых подследственных». Опасаясь изложения подсудимыми антисоветских взглядов, «которые объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью», Абакумов просил Сталина «дело предателей… заслушать в закрытом судебном заседании… без участия сторон».
Решение о казни генерала Власова и других руководителей КОНР было принято на заседании Политбюро 23 июля 1946 г., за неделю до начала «процесса», а Военная коллегия Верховного суда под председательством палача Ульриха лишь озвучила сталинский приговор. Процесс был действительно закрытым, на него не допустили никого даже из самого узкого круга «доверенных» лиц. Генерал-майор Григоренко в своих мемуарах пишет, что сначала было намерение провести открытый суд на манер показательных процессов 30-х годов, но «поведение власовцев все испортило». Сам Власов, Трухин и большинство других обвиняемых отказались признать себя виновными в измене Родине. Как пишет Григоренко (со слов знакомого офицера, принимавшего участие в подготовке процесса), все они — главные руководители движения — заявили, что боролись против сталинского террористического режима. Хотели освободить свой народ от этого режима. И поэтому они не изменники, а российские патриоты…Власов и Трухин твердо стояли на неизменной позиции: «Изменником не был, и признаваться в измене не буду. Сталина ненавижу. Считаю его тираном и скажу об этом на суде». Не помогли ни обещания жизненных благ, ни угрозы. Власов на эти угрозы ответил:
«Я знаю. И мне страшно. Но еще страшнее оклеветать себя. А муки наши даром не пропадут. Придет время, и народ добрым словом нас помянет». Трухин повторил то же самое (38:117).
Очевидно, именно твердой позицией Власова и других руководителей РОА объясняется закрытость и поспешность заседания Военной коллегии Верховного суда СССР, которое началось за закрытыми дверями 30 июля 1946 г. и закончилось 1 августа смертным приговором всем двенадцати обвиняемым. Власова и других руководителей движения повесили ночью 1 августа 1946 г. во дворе Бутырской тюрьмы. Останки казненных кремировали и захоронили в безымянном рву Донского монастыря, где с 1930-х гг. хоронили прах жертв сталинских репрессий.
О состоявшемся процессе советские люди узнали в августе 1946 г. из кратких заметок в газетах «Правда» и «Известия». Газеты сообщали, что Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела дело по обвинению Власова А.А., Малышкина В.Ф., Жиленкова Г.Н., Трухина Ф.И., Закутного Д.Е., Благовещенского И.А., Меандрова М.А., Мальцева В.И., Буняченко С.К., Зверева Г.А., Корбукова В.Д. и Шатова Н.С. в измене Родине и в том, что они, будучи агентами германской разведки, проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против Советского Союза. Сообщалось также, что все обвиняемые признали свою вину, приговорены к смертной казни через повешение и что приговор приведен в исполнение.
Из всех названных в сообщениях газет лишь имя Власова было более или менее известно широкой общественности. Об остальных осужденных и их конкретной деятельности в газетах ничего не сообщалось. Властям не хотелось доводить до сведения народа, что в роли «агентов немецкой разведки и диверсантов» выступали генералы и старшие офицеры, занимавшие высокие посты в Красной Армии. Ведь все они являлись типичными представителями советского офицерского корпуса. П.Г. Григоренко рассуждает в своих воспоминаниях о том, как тяжело было многим понять, что знаменитый генерал Власов, «не какой-то выскочка — кадровый офицер, коммунист, чисто русский человек, выходец из трудовой крестьянской семьи», с помощью немцев создал Русскую освободительную армию. Григоренко задается вопросом: «Почему?! Не вязалась эта фигура у меня с образом изменника родины. Провокация, говорил я себе». Как же можно было публично признать, что кроме «выродка» Власова были и другие генералы и полковники, которые во время Великой Отечественной войны подняли оружие против советской власти. Это могло дать повод к нежелательным размышлениям о причинах такого явления. Кто же такие эти воспитанные советской властью агенты германской разведки, шпионы, диверсанты и террористы?
Читать дальше
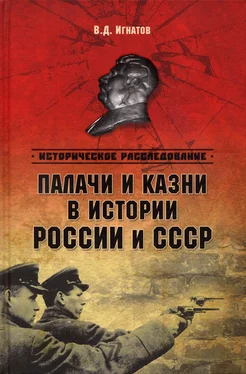

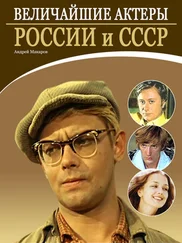


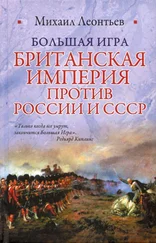

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)