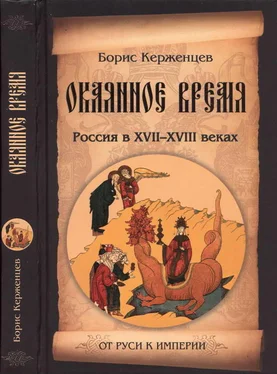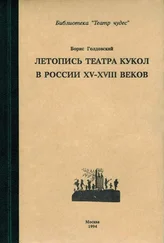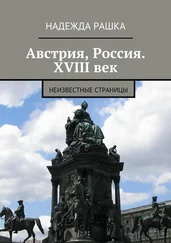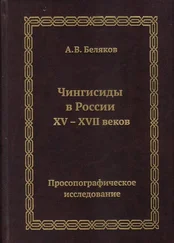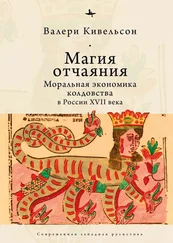Без всякого сомнения, переменам в сознании европейцев способствовали научные успехи и начавшийся технический прогресс, расширявшие представления о мироздании и человеке, упрощавшие освоение мира и все шире раздвигавшие его границы. Достигнутые результаты подстегивали дальнейшее развитие, одних манили новыми возможностями, увеличивали жажду познания, у других дразнили честолюбие, третьим открывали новые пути для обогащения.
Но все-таки эта картина не может вполне объяснить те изменения, которые произошли с христианским миром Запада в эпоху Нового времени. Ведь астрологические открытия делали еще мудрецы и астрономы древности, дальние плавания и географические открытия совершались в античности и Средневековье без помощи астролябии, а прежних технических знаний было достаточно для строительства величественных соборов и неприступных крепостей. Наконец, история знает множество примеров стран и обществ, которые, пережив технический прогресс и усвоив множество его достижений, сохранили глубокую религиозность и не изменили традиционному пути развития, не порвали резко и бесповоротно с мировоззрением предков.
История Европы складывалась по-другому. В отличие от консервативных восточных обществ, европейцы отчаянно ломали и перестраивали социальные и духовные устои своего мира. Это привело к странному результату — неустанные поиски справедливого устройства общества закончились небывалым развитием колониального рабства, а стремление к благочестию и кровопролитные войны за «истинную веру» — торжеством рационализма и в конечном счете совершенной секуляризацией сознания.
Так случилось потому, что сам научно-технический прогресс, а также трансформация социального, экономического и политического устройства западного мира были лишь следствием другого, более раннего и масштабного явления.
Гуманистическая революция эпохи Возрождения разрушила прежние христианские основания европейской цивилизации и построила на их месте новые. Это было движение не просто антихристианское по своему существу, но еще шире — антирелигиозное. Главное различие состояло в отношении к смыслу жизни и к месту человека в ней. Средневековому сознанию, сосредоточенному на отрешении от земных страстей и выраженному Блаженным Августином, учившим своих последователей: «Настоящая жизнь ваша есть сон, и богатства эти как бы во сне протекают». Апостол Павел убеждает достигать вечной жизни» люди нового склада противопоставили активное утверждение прав и интересов плоти.
Этот конфликт остро и чутко ощутил Петрарка, основатель философии гуманизма, и передал его в одном из лучших и, без сомнения, интереснейших своих произведений. Оно неслучайно озаглавлено так же, как и проповедь Блаженного Августина — «О презрении к миру». Потому что сочинение Петрарки есть спор с мировоззрением блаженного отца Церкви. Но, что важнее и красноречивее всего, этот диалог — в первую очередь спор автора с самим собой, а вместе с ним и выражение душевных терзаний многих его современников, очарованных наступлением новой морали и не имевших сил бороться с искушением. Петрарка признается в своей духовной слабости: «Когда, поднимаясь по прямой тропинке, я дошел, скромный и рассудительный, до распутья двух дорог и мне было приказано идти по правой дороге, — тогда, из неосторожности или упрямства, я свернул на левую… С тех пор как меня потянуло на кривой и нечистый путь, я часто со слезами оборачивался назад, но уже не мог идти правой дорогою; и вот, когда я ее покинул, тогда-то, несомненно, воцарилась эта неурядица в моих нравах…»
В диалоге два участника, Августин и Франциск, третье лицо — Истина, наблюдает за их беседой, не принимая участия в споре. Августин умоляет собеседника одуматься и обратиться на путь покаяния, отринуть попечение о земном. Он тщетно напоминает Франциску (Франческо — имя Петрарки) о страхе Божием: «О слепец! Ты все еще не понимаешь, какое безумие— подчинять душу земным вещам, которые воспламеняют ее огнем желаний, не способны ее успокоить, не могут быть верны ей до конца и, обещая ее приголубить, вместо того терзают ее непрерывными потрясениями… Помнишь ли, как силен был в тебе страх Божий, как много размышлял ты о смерти, как сильно был привязан к вере и как любил добродетель?»
Франциск сокрушенно восклицает в ответ: «Разумеется, помню и скорблю о том, что с годами добродетели умалились во мне…»
Тогда Августин, не жалея для собеседника бранных имен, называя его и «жалким» и «глупейшим человечком», вновь предостерегает его: «Раз ты не жаждешь бессмертного, раз не помнишь о вечном, — ты весь земной, твое дело проиграно, надежды нет больше!.».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу