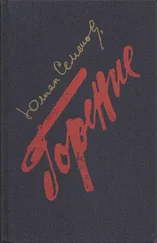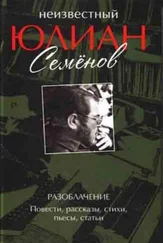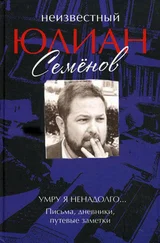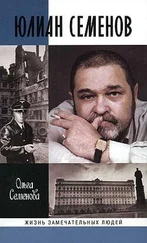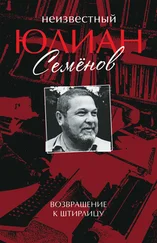Юлиан Семенов - Горение (полностью)
Здесь есть возможность читать онлайн «Юлиан Семенов - Горение (полностью)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Горение (полностью)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Горение (полностью): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Горение (полностью)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Горение (полностью) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Горение (полностью)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности...
Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, - мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она памятнее теперь всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины...
Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние "Шпекины" распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом начинающаяся чахотка погнала меня за границу. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить, это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих об вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России".
...Перед тем как переходить к рассказу о процессе первых русских утопистов, Дзержинский сделал выписку из показаний главного "преступника", Петрашевского:
- Меня обвиняют в изучении теории Фурье и Сен-Симона; давайте же уговоримся, что эти теории, особенно фурьевская, революционными не являются. Это философская система, а мне неведомы российские законы, запрещающие заниматься изучением философии. Отвечая на эту статью вашего обвинения, невольно скажешь: "Ну, можно ли после этого наукам процветать в России?!" И спросишь себя: "Неужели ты живешь в Европе... в середине девятнадцатого века?!" Как тут не вспомнить цинические слова кардинала Ришелье: "Напишите семь слов. Каких хотите. Я вам и из этого выведу уголовный процесс, который должен кончиться смертной казнью".
...Нельзя не прийти к мысли, писал Дзержинский на маленьких листочках бумаги, что дело петрашевцев с о з д а л чиновник министерства внутренних дел Липранди, внедривший в ряды русских философов своего агента Антонелли первого, судя по всему, провокатора, созданного русской тайной полицией во имя того, чтобы оберегать царственную дикость и тщиться сохранить таинственную "особость истинно национального пути развития империи".
Послушаем же, о чем говорили на собраниях у чиновника министерства иностранных дел, потомственного дворянина Петрашевского.
Вот отрывок из записок генерал-лейтенанта Кузьмина: "Я посещал Петрашевского, и по совести можно сказать, что беседы на этих вечерах были небезынтересны.
Цензура, убивавшая в то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласного обсуждения предметов общего интереса, но воспрещала даже малейший намек на то, что могло бы быть лучше, если было бы иначе; а в это именно время самоуправство дошло до высшей степени, злоупотребления, лихоимство не имело границ; естественно, что везде, где бывали люди разбора выше определенного, они прямо высказывали свои убеждения, совершенно противоположные грустному положению дел; когда же собиралось их по нескольку человек, например, по пятницам у Петрашевского, то они свободно разменивались идеями, новостями, доходившими до каждого в литературе, политике, столичных и провинциальных происшествиях; с каким интересом следили за происшествиями на Западе! Припомним, что пятое десятилетие нашего века отличалось направлением к социальным реформам; такое повсеместное направление высказалось, наконец, в февральской революции, объявшей всю Западную Европу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Горение (полностью)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Горение (полностью)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Горение (полностью)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.