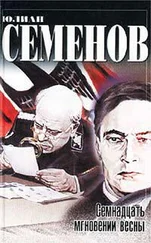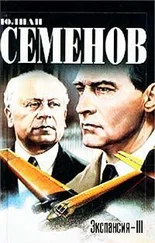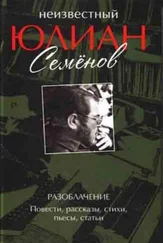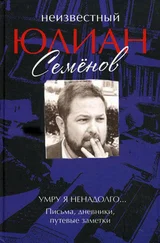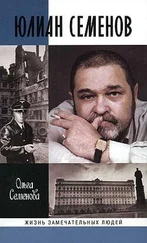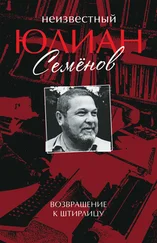Меняется мода, меняется человек, меняется репертуар на Плас Пигаль, меняется климат, меняется сиделка у постели умирающего, меняется скатерть, меняется филателист, меняется страна, меняется Испания. Изменилась, например, одежда в Испании; если раньше каждый хотел быть грандом, то ныне миллионеры носят джинсы и кеды. Пришло это, правда, из Америки: молодые заокеанские туристы, словно ощущая некий комплекс вины за то богатство, которое хлынуло в штаты после войны против нацизма и в дни боев под Гуэ и Пномпенем, обычно ходят в рванье, потные, со спальными мешками за спиной - ни дать ни взять герои Джека Лондона, первопроходцы, исповедующие не культ насилия, но культ доброй силы, которая обычно сопутствует узнаванию нового. И к этим американцам в Испании изменилось отношение, к ним сейчас относятся хорошо, совсем не так, как к тем, кто носит военную форму US ARMY, а их здесь много - и в Роте, под Кадисом, и в Торрехоне возле Мадрида...
Изменение в одежде - одна из многих граней "изменения" вообще.
Конкретный символ изменений в Испании - памятник Хемингуэю у входа на Пласа де Торос в Памплоне, сделанный моим другом Сангине. Изменения порой угадываются не в декретах, газетных перепалках, болтовне в кулуарах министерств, в репрессиях или амнистиях - они могут быть замечены в том, что не имеет, казалось бы, прямого отношения к политике. Искусство - с момента его возникновения - всегда было связано с политикой, ибо охота на мамонта нашла свое живописное отражение на стенах пещер, поскольку атака во имя пищи и тепла и есть вопрос политики в очищенном - от всего наносного - виде.
Поставить памятник человеку, написавшему "По ком звонит колокол" и "Пятую колонну", писателю, отдавшему сердце республиканской "Земле Испании", интернациональным бригадам и батальону Линкольна, где большинство бойцов были американскими коммунистами, - симптом, и симптом приметный. Те, которые сейчас имеют право запрещать, - разрешили, руководствуясь желанием "спустить пары" из бушующего котла, но ведь те, кто хотел поставить памятник, и кто поставил его, и кто кладет к подножью гранитного республиканского писателя цветы, руководствовались другим, разве нет?
Город гудел изнутри, как вулкан, который готов взорваться. И он взорвался, когда с Пласа дель Кастильо тысячи людей растеклись по улицам, сотрясая древние стены Памплоны песнями и грохочущими оркестрами.
- Ты читала "Фиесту"? - спросил я.
- Нет. Это плохо?
- Наоборот. Хорошо.
- Почему?
- Потому, что ты можешь сравнить Чудо со Словом.
- А разве Слово - не Чудо?
- Слово тоже Чудо, только Слово Хемингуэя было рождено Чудом Сан-Фермина.
- А я не разлюблю Хемингуэя, если после настоящей фиесты прочту его "Фиесту"?
- Нет, - ответил я и сразу же подумал о том, что категоричности детей нельзя противопоставлять нашу категоричность: оружие взрослых -доказательность. Впрочем, в понятии "взрослость" заложена снисходительность, отпущенная тем чувством ответственности, которое рождает отцовство. Мы дали детям возможность максимально быстрого приобщения к знаниям; термин "акселерация" - мудреный термин, но если изложить его просто и понятно: "раннее умнение, параллельное раннему созреванию", тогда станет ясно, что мы живем сейчас в новой эпохе, которая отнюдь не есть механическое повторение эпохи "отцов и детей". Н е т е р п е н и е, которое породило конфликт поколений в прошлом веке, сейчас присуще в равной мере и старцам, ибо Нильс Бор и Сергей Королев продолжали быть яростными нетерпеливцами до последнего дня своего, а ведь нетерпение - это главное, что определяет возрастную границу. Век электроники, космоса и пересадки сердца захватили в яростную круговерть "темпа знания" детей и отцов; порой отцов более, чем детей, ибо отец входит первым в зону опасного эксперимента: "отец" в данном случае понятие типическое.
- Я не знаю, как это все можно нарисовать, - сказала Дуня, - не могу себе представить, как это можно передать на холсте.
Я был настроен продолжать осторожные отцовские сентенции, но пришли друзья, подхватили нас, закружили в танце, и мы влились в толпу, а она как лес (так, кажется, говорил Мигель Унамуно), она все ставит на свои места: мы перестали быть зрителями фиесты, а стали ее участниками, и не было в ту ночь ни одного человека в Памплоне, который бы просто глазел на процессии, сменявшие одна другую, на великанов, вышагивавших на ходулях, на транспаранты со смешными рисунками, на певцов - а им был каждый.
Читать дальше