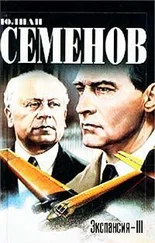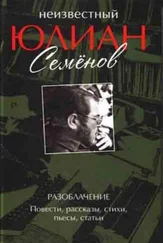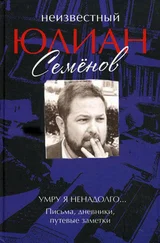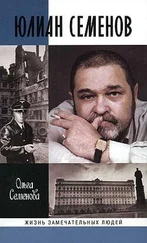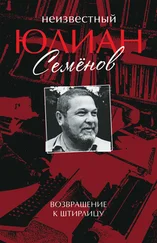Три раза великий лирик Хемингуэй, словно гениальный режиссер, высветил великого гражданина и республиканца - Хемингуэя. В первый раз - когда он пишет о нас: "Говорят, это наш будущий враг. Так что мне, как солдату, может, придется с ними драться. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа более благородного, народа, больше похожего на нас". Второй раз - когда он лежал в номере "Гритти", и еще только рассветало, и он был один, а напротив на двух стульях был портрет итальянки, и он говорил с собой и с портретом Ренаты: "Я любил три страны, и трижды их терял. Ну зачем же так? Это несправедливо. Две из них мы взяли назад. И возьмем третью, слышишь, ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии.
- Да, - тихонько повторил он девушке; ее ясные глаза глядели на него в раннем свете дня.
Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций. Имейте в виду, мы вас честно предупредили, - добавил он". И в третий раз - когда солдат Кантуэлл думает о сильных мира сего: "Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков".
Можно ругать власть и посвящать этой ругани целые романы, можно бранить каудильо, можно в самый ярый период "холодной войны" сказать о своей любви к русским, но все это может оказаться - и, увы, сплошь и рядом оказывается лишь острым памфлетом.
Но Хемингуэй писал не памфлет - он писал роман о любви старого солдата и юной венецианской аристократки. И сила воздействия - гражданственного, республиканского воздействия - в этом его романе громадна, как и во всех других вещах, хотя этому отведены всего-навсего три фразы.
Критика ругала Хэма за роман. Критики утверждали, что он исписался, что он потерял самого себя. Мне очень хочется верить, что Старику не было больно из-за этих подонков. Ему всякое приходилось слышать в свой адрес, - чего не накричат бойкие журналисты и журналистки! Многие не понимают "Восьми с половиной" Феллини и из-за этого так зло раскладывают гениальную киноисповедь итальянца. (И я был высоко горд, когда именно моя Родина на нашем кинофестивале присудила этому фильму высшую награду.) Можно считаться талантливым - куда труднее талантливым быть. Критика тогда не смогла подняться до Хэма. Чтобы подняться до его романов, можно и не быть талантливым, но обязательно надо пережить такую же последнюю любовь, и ночь в "Гритти" за бутылкой вина, и холодный ветер, который задувал под одеяло на гондоле, и последние слезы итальянки, которая дала себе ученическое твердое слово никогда не плакать... Пусть не Италия - пусть костер в архангельском лесу, за Холмогорами, в весенний рассвет, когда уже разлетелся тетеревиный ток, и ты в шалаше на берегу Двины, а над тобой высоко-высоко тянет казара, или Ирак, берег Персидского залива, ночь, и пьяные матросы бьют женщину с растрепанными черными волосами, похожую на венецианку... Или... Это у каждого должно быть свое "или", А если их не было и человек не может себе представить, как это бывает, или он не хочет поверить Старику, что именно так и бывает, - тогда пусть ругает его роман: это не больно и даже не обидно.
Наверное, когда он писал этот свой роман, это свое точно увиденное п р о в и д е н и е, ему было мучительно радостно и так же больно. Хэм не думал о полковнике, когда писал роман, потому что он списывал его с того человека, которого слишком хорошо знал. Зато он с такой поразительной нежностью выписал итальянку, и получилось чудо: она высветила собой Кантуэлла. Можно понять писательскую технологию Хэма - только потому, что в его творчестве ее не было вовсе. Он писал из самого себя, мучительно честно, до самой последней степени честности, и поэтому какие бы точные "натуралистические" подробности он ни писал - они звучат как музыка Моцарта, они, эти так называемые "натуралистические подробности", невозможно чисты у него.
Старик в этом романе описывает день, вечер, ночь, рассвет, раннее утро, утро, день и ночь - последнюю ночь полковника Кантуэлла. А мы сопереживаем жизням и судьбам - это умеют делать с нами только гении.
Хемингуэй никогда не "темнил" - ни в жизни, ни в творчестве. Он всегда был писателем одной темы - темы человека доброго, открытого, нежного, сурового. Он всегда исповедовал религию антифашизма, он был последователен в своей ненависти к нацистам и к войне. Он никогда не декларировал этого - ни в интервью, ни с трибун. Он просто таким был.
Читать дальше