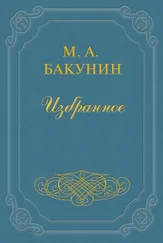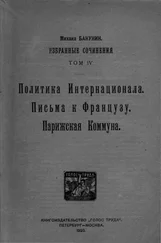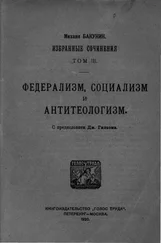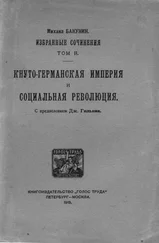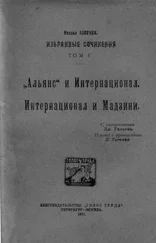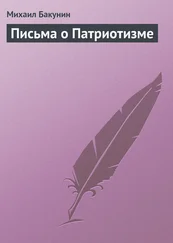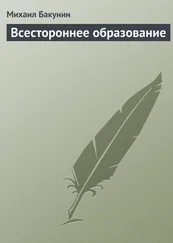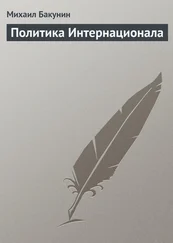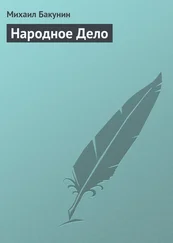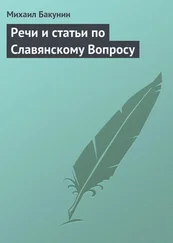11 октября он показывал: "Я отрицаю, что давал распоряжения поджигать дома, а также и то, что знал о каких-либо прямых приказах в этом духе, а равно о лицах поджигателей и их средствах для выполнения задуманного. Мне вообще известно, что в городе сгорели лишь оперный театр и еще один дом". Тогда ему предъявили приказ Временного правительства начальникам баррикад, который разрешал им в случае нужды в применении огня в интересах обороны действовать по собственному усмотрению. Бакунин признал, что он участвовал в обсуждении этого приказа, что этот приказ был вызван ходатайством двух гласных Рихтера и Минквица спасти город от поджогов, коему Временное правительство сочувствовало, и что означенным приказом начальники баррикад побуждались к пощаде зданий, но в то же время не лишались прямым запретом крайнего средства обороны. От Временного правительства прямых приказов о поджогах не исходило; равным образом они никогда не исходили от него, Бакунина. Он слыхал, что кое-где преступлено было к таким поджогам, но не знает, кто их приказывал, какими средствами располагали их виновники и т. п.
19 октября Бакунину была дана очная ставка с гласным Майзелем. Последний, желая доказать, что Бакунин был главным действующим лицом в ратуше, заявил, что Бакунин неоднократно самовластно давал ответы на обращения городской думы, не спрашивая предварительного мнения присутствовавших тут же членов Временного правительства. (Это впрочем весьма похоже на Бакунина!) Далее он объявил, что Бакунин возлагал на думу ответственность за доставку пистэнов. Бакунин отрицал справедливость этого показания, которое Майзель подтвердил клятвой.
Что Бакунин допускал в случае необходимости и поджоги, это несомненно: для этого не требуется даже быть революционером, для этого достаточно быть просто военным, просто борцом, просто толковым человеком. Оборона с помощью огня применяется всеми военачальниками. Мысль о преграждении наступления монархических полчищ, действительно убивавших и сжигавших все на своем пути, принадлежала не одному Бакунину. О ней думал и Ракель, прибывший 6 мая в Дрезден из Драги и видевший слабость инсургентов.
На стр. 158 своих цитированных мемуаров Рекель рассказывает, что для преграждения наступления правительственных войск он придумал обложить слишком низкие баррикады повстанцев смоляными венками, которые, будучи вовремя подожжены, могли бы задержать продвижение усмирителей (эту мысль приписывали Бакунину, хотя не исключена возможность" что она возникла у них обоих одновременно, тем более что они могли на эту тему говорить между собою и до восстания). Временное правительство согласилось было на эту меру, к осуществлению которой Рекель уже приступил, но под влиянием нескольких городских гласных, опасавшихся пожара и гибели каменных домов от смоляных венков, отменило свое распоряжение. А между тем королевское правительство, менее щепетильное в этом отношении, уже собиралось разрушить весь город бомбами (цит. соч., стр. 158-159).
Мещане стремились выставить Бакунина кровожадным человеком. В одной консервативной саксонской газете для деревни говорилось: "В последние дни ужасный Бакунин проявил признаки помешательства на насилии. Как запертый в клетке хищный зверь шагала эта долговязая фигура, облеченная в синий фрак, взад и вперед по думскому залу, и всякое противоречие своим приказаниям он отклонял с пеной на губах". (W. Schinke- "Dеr politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849", стр. 37). На самом деле при всей своей революционной страсти он был человеком весьма гуманным, и, где интерес революции допускал это, старался вызволить попавшего в беду обывателя, невинного в приписываемом ему преступлении. По этому поводу Рекель сообщает мелкий, но характерный для Бакунина факт.
Рассказав о том, что подозрительно настроенная толпа схватила какого-то коммунального гвардейца, выстрелившего со двора из ружья и уверявшего, что он стрелял по голубям, и требовала немедленной расправит с ним как с злодеем, стрелявшим в народ, Рекель прибавляет: "Здесь Бакунин показал всю свою столь охотно приписываемую ему правдолюбивыми врагами жестокость и кровожадность. Резким тоном приказал он все более запутывавшемуся обвиняемому замолчать, затем стал сзади него и начал подсказывать ему, что ему следует говорить, дабы утихомирить разгоревшиеся страсти, в то время как другие старались успокоить обвинителей. И таким образом этот полевой суд закончился немедленным освобождением испуганного человека" (цит. соч., стр. 154-155).
Читать дальше