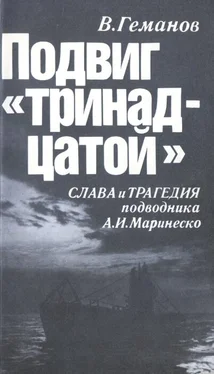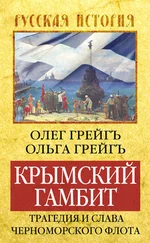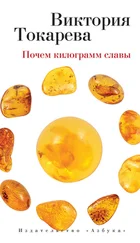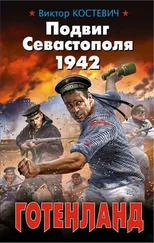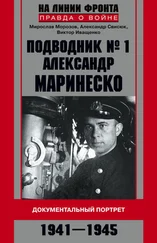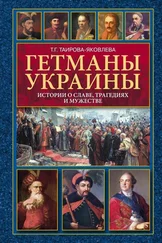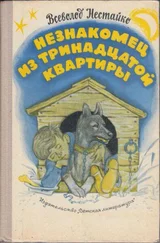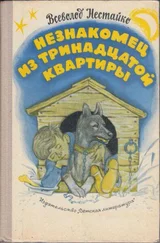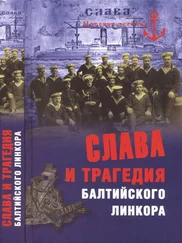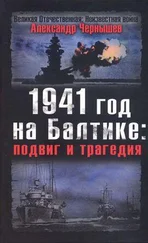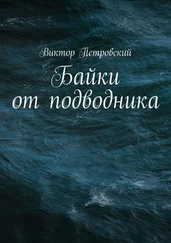Все это выбивало из колеи людей робких, строго следующих пунктам инструкций, хотя бы они и не соответствовали условиям, обстановке. А Маринеско не боялся этого. Он еще не успел проникнуться «священным» трепетом перед вышестоящими. Ведь он не был военным до мозга костей. Он был просто моряком, причем моряком настоящим, как говорят, от бога. Недаром бывшие товарищи Александра Ивановича — командиры подводных лодок, признанные авторитеты, прошедшие отличную морскую школу Сергей Лисин, Михаил Калинин и другие — признавали: «… он, Маринеско, был моложе нас годами, но мы учились многому у него, ведь это был изумительный штурман и мастер торпедных атак!»
Александр Иванович, с детства впитавший вольный дух одесситов, перенявший от отца чувство человеческого достоинства, поступал всегда самостоятельно, делал так, как лучше для дела. Он не считался с личными потерями — потерями возможных благ, блаженного спокойствия, каких-то выгод. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не мирился с несправедливостью и обманом, не прощал нечестности и отступления от благородных правил. Удивительно ли, что недооценка совершенного его экипажем подвига в январско-февральском походе, снижение на две-три ступени награждений его подчиненным вызвали у командира резкую реакцию и он сделал все, чтобы уйти с флота.
Был не прав? Без сомнения! И он сожалел о случившемся, переживал за поспешность своего решения. Но дело было уже сделано.
Несколько лет после ухода в запас Маринеско плавал вторым помощником и старпомом на судах торгового флота. Его «Ялта», а затем. «Севан» ходили между Ленинградом, Гдыней, Лондоном, Стокгольмом. Бывалый моряк, став старпомом, быстро придал «Севану» отличный внешний вид, привел его в нормальное техническое состояние. Судно регулярно выполняло планы, рейсы были безаварийными. Словом, пароход был в надежных руках. Но неожиданно обострилась болезнь правого глаза, да и общее состояние здоровья ухудшилось. Однажды в ночную вахту он потерял сознание. Надо было срочно начинать лечение. Пришлось Александру Ивановичу уйти на берег. Однако сидеть без дела он не мог. И тогда Смольнинский райком партии Ленинграда предложил ему место заместителя директора по административно-хозяйственной части в Институте переливания крови.
Наладить организацию даже этого, в общем-то незнакомого ему, дела было для Маринеско не так уж трудно. Прежде всего потому, что новые подчиненные сразу оценили его энтузиазм, неформальную заботу о людях, человечность и коммуникабельность. Они увидели в нем человека! Результат сказался в довольно короткий срок. Резко улучшилась хозяйственная деятельность института. Но директору и его сообщнику (претенденту на занимаемую Александром Ивановичем должность) не нужен был такой честный и принципиальный человек. Во что бы то ни стало они решили от него избавиться.
Повод подал сам Александр Иванович, предложив директору раздать часть сэкономленных торфоугольных брикетов нуждающимся в топливе только что пережившим блокаду сотрудникам. В результате умело подстроенной провокации Маринеско попал на скамью подсудимых, обвиненный в «разбазаривании социалистической собственности»…
Пятнадцать писем Маринеско из мест заключения, находящихся у меня, — это удивительный рассказ о трудовом напряжении, о психологическом, нравственном испытании, выпавшем на его долю.
Поседел бывалый командир, но не сдался, не уступил обстоятельствам. Верил в справедливость и работал как одержимый. После досрочного освобождения (через полтора года вместо определенных ему судом трех) Александр Иванович устроился работать на ленинградский завод «Мезон», где около восьми лет трудился диспетчером, потом мастером ОТК, начальником отдела снабжения. Трудился по привычке добросовестно, с полной отдачей. И в то же время жил очень скромно. Работавшие рядом с ним люди даже не знали, что он герой нашумевшей во всем мире «атаки века». И только выступление по радио писателя Сергея Сергеевича Смирнова в 1961 году, последовавшее за публикацией в «Литературной газете» статьи писателя Александра Александровича Крона о первой встрече ветеранов-подводников в Кронштадте (в 1959 году) открыло глаза его сослуживцам по работе. К сожалению, Александр Иванович был уже тяжело болен. Полтора года промучился он в Военно-морском госпитале, перенес две операции — по поводу рака горла и рака желудка — и в ноябре 1963 года скончался, так и не познав сладости славы…
Читать дальше