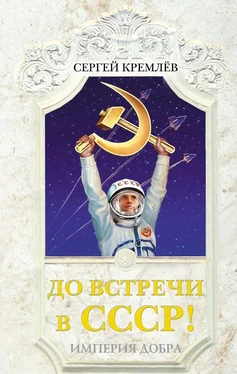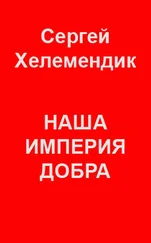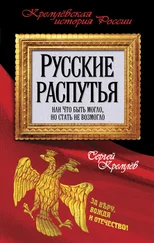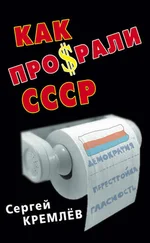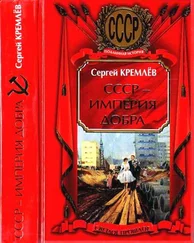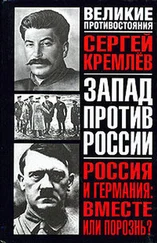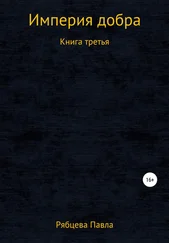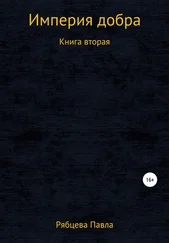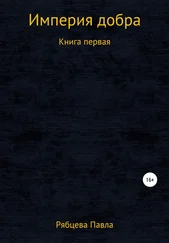Шла война… Вольфрам — это быстрорежущая сталь и, значит, возможность удвоенного выпуска шрапнели.
Богданович закончил сообщением:
— Итак, господа, для изучения туркестанских руд необходимы 500 рублей.
— А наш запрос в правительство? — поинтересовался профессор Ферсман.
— Недавно получен очередной ответ — денег в казне нет. Собственно, господа, как вы знаете, правительство отказывает нам вот уже два года.
…Богданович не оговорился, и здесь нет описки. У царизма не находилось пятисот рублей на экспедицию. А по росписи государственного бюджета на 1913 год последний царь России Николай II получал 16 миллионов на нужды Министерства Императорского двора, да ещё 4 миллиона 286 тысяч 895 рублей «на известное его императорскому величеству употребление». И это — не считая его доходов от личных земель и прочего. И это — только царь, а ведь была ещё и свора великих князей и прочих бездельников из «августейшей фамилии».
Богданович уныло поблёскивал очками, и тогда встал академик Крылов — математик и кораблестроитель. Тоном твёрдым и раздражённым одновременно он сказал:
— Что касается Туркестана, тут всё просто — вот пятьсот рублей. Для спасения армии, погибающей от отсутствия снарядов.
— А Алтай? — не унимался Ферсман.
— С Алтаем сложнее… — Крылов задумался, потом ответил: — Карл Иванович не указал, что рудники находятся на землях великих князей Владимировичей…
И вдруг взорвался:
— Это чёрт-те что! Царская семья захватила в свои руки ещё и вольфрамовые месторождения Забайкалья! Вот где уместны реквизиция или экспроприация…
Неловко протиснулась в заседание комиссии тишина, но тут же перешли, впрочем, к другому вопросу. Насчёт пятисот рублей было занесено в протокол, а насчёт династии…»
Этот эпизод полностью документален, и лишь беллетризован мной — я развернул данные протокола в диалог. Так было в царской России в самый критический для неё период Первой мировой войны.
А вот как выстраивались отношения науки и высшей власти во время Великой Отечественной войны. Все ниже приводимые данные, включая хронологию, взяты мной из изданного в 1996 году издательством «Наука» сборника очерков, воспоминаний и документов «Наука и учёные России в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945…» тиражом 1000 (одна тысяча) экземпляров. Этот сборник не является ни особо ярким, ни особо представительным, ни даже объёмным — менее трёхсот страниц. При этом составители сборника особой любви к СССР явно не питали, что следует из названия, в котором фигурируют ученые России , а не СССР. Что ж, тем более ценной для признания советской силы Страны Добра оказывается информация из этого сборника.
Уже 10 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны создал Научно-технический совет с широкими полномочиями под руководством С.В. Кафтанова. Военная перестройка тематики научных учреждений была проведена по академическим учреждениям к 1 июля, а по вузам — в сентябре 1941 года. В целях обеспечения наилучших результатов наряду с традиционными формами деятельности научных коллективов вводилась новая форма работы в рамках комиссий и комитетов. Они объединяли учёных и специалистов различных учреждений и ведомств и помогали решать все проблемы оперативно и результативно.
Комиссии по целевому назначению и характеру деятельности делились на региональные и проблемные. Региональные комиссии, особенно Комиссия по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана и Комиссия по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья, сыграли важную роль в использовании сырьевых ресурсов восточных районов страны на нужды обороны.
В числе проблемных комиссий были созданы Военно-инженерная, Военно-санитарная, по военно-морским вопросам, по авиации, по геолого-географическому обслуживанию армии (под председательством академика Ферсмана) и другие.
Уже в конце 1941 года усилия учёных-обществоведов были объединены в Комиссии по истории Великой Отечественной войны!
По поручению правительства регулированием состава и количества научных учреждений в ноябре 1941 года занимался Госплан СССР, и государство тратило на научные исследования даже в самый тяжёлый период войны около 1 миллиарда рублей. Для сравнения сообщу, что в 1940 году государственный бюджет СССР составил 182,6 миллиарда рублей, но в 1941 году доходы бюджета, естественно, резко упали. Достаточно сказать, что к концу 1941 года была оккупирована территория, на которой до войны проживало 42 % советских людей, производилась треть валовой промышленной продукции и имелось 47 % посевных площадей. Так что по тем временам цифра в один миллиард полновесных сталинских рублей — это огромные средства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу