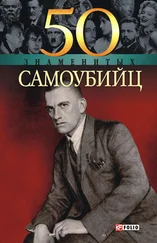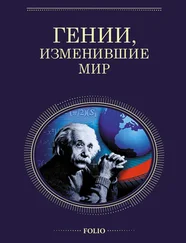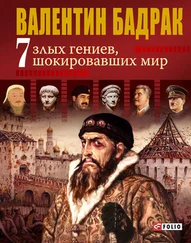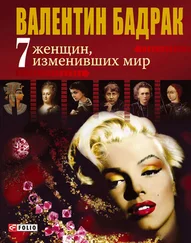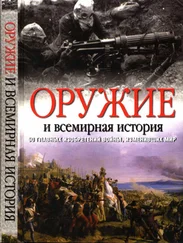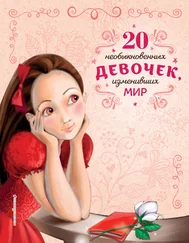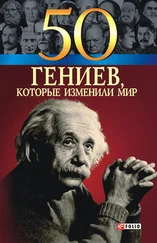Даже в половодье, самое опасное на реке время, мальчики устремлялись к воде. Спорт, которым они увлекались, был отнюдь не безобидным – катанье на льдинах, перепрыгивание с одной на другую. Однажды, приняв за льдину грязную воду (вероятно, подвела близорукость), Константин прыгнул с той решительностью, на какую способен лишь одиннадцатилетний мальчишка, не понимающий, что прыгает навстречу смерти.
Полем его смелых походов оказалась и старинная городская церковь: вместе с приятелями он не раз лазил на полуразрушенную колокольню. Добраться до звонницы, ударить в колокол было одновременно и удовольствием, и признаком незаурядной доблести. Но даже мальчишки ахнули, увидев однажды, как Константин полез еще выше – на маленький балкончик у самой маковки. Вся Вятка лежала внизу, под ногами. Смотреть на город сверху было очень интересно. И тут Константин сделал то, чего уж явно не следовало делать, – он покачал ограду балкончика. Обветшалое сооружение заходило под ногами. Стало страшно. Казалось, старая колокольня вот-вот вырвется из-под ног. Ощущение безудержного страха было настолько сильным, что запомнилось ему на всю жизнь и не раз являлось потом в сновидениях…
Одним словом, раннее детство Циолковского ничем особенным не отличалось от жизни обыкновенных детей. «Вывод интересный, – писал он, оценивая свои ранние годы. – Но, пожалуй, не новый: нельзя угадать, что из человека выйдет… Мы любим разукрашивать детство великих людей, но едва ли это не искусственно, в силу предвзятого мнения… Я, впрочем, лично думаю, что будущее ребенка никогда не предугадывается».
Перелом в жизни мальчика произошел, когда ему было девять лет. Он заболел скарлатиной, и хворь дала осложнение – сильнейшую тугоухость, а позднее почти полную глухоту. «Последствия болезни, отсутствие ясных звуков, ощущений, разобщение с людьми, унижение калечества – сильно меня отупили. <���…> Было ли это последствием отупления или временной несознательности, свойственной моему возрасту и темпераменту, я до сих пор не знаю. Я более склоняюсь к тому, что отупение скорее было от глухоты и болезни». Всю жизнь Циолковский считал себя калекой и находил в этом оправдание своим несчастьям. Глухотой он объяснял свою замкнутость и нерасположенность к общению, неспособность наладить связь с научным миром и т. д. Но в ней же он видел и объяснение своим успехам на научном поприще: «Меня унижала все время глухота, бедная жизнь и неудовлетворенность. Она подгоняла мою волю, заставляла работать, искать… Только крайнее напряжение сил сделало меня тем, что я есть».
Невзирая на проблемы со слухом, в 1869 году отец отдал Константина вместе с младшим братом Игнатием в первый класс Вятской мужской гимназии. Предметов много, и учиться было нелегко, тем более полуглухому ребенку. В общем, успехами будущий ученый не блистал – во втором классе остался на второй год, а после третьего и вовсе распрощался с гимназией: в 1873-м вместе с девятью одноклассниками он был отчислен «для поступления в тех. училище».
Трудности с учебой усугубились тем, что на тринадцатом году жизни Константин потерял мать. Отец добывал средства к существованию и детьми практически не занимался, так что для их воспитания после смерти матери пригласили тетку. Но она была малограмотна и помочь мальчику в учебе ничем не могла. Екатерину Ивановну Юмашеву дети «не особенно любили и уважали. Но она все же была очень кротка и никогда нас не обижала: ни криком, ни толчком. Она имела склонность все преувеличивать и даже врать».
Таким образом, гимназические годы стали для Константина Циолковского «самым грустным, самым темным временем» жизни. А поскольку мальчик был довольно самолюбив и ему, наверное, надоело ловить на себе сочувственные взгляды, в нем проснулось стремление доказать окружающим свою полноценность, «искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презренным…» Это чувство не покидало его всю дальнейшую жизнь.
«Лет с четырнадцати-пятнадцати, – писал Циолковский, – я стал интересоваться физикой, химией, механикой, астрономией, математикой и т. д. Книг было, правда, мало, и я больше погружался в собственные мои мысли. Я, не останавливаясь, думал, исходя из прочитанного. Многого я не понимал, объяснить было некому и невозможно при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума…» Тогда же Константин начал рассуждать о полетах к звездам, но Эдуард Игнатьевич, пуская в ход всю полноту отцовской власти, обрывал эти разговоры, которые казались ему проявлением безумия. «Еще в ранней юности, после первого знакомства с физикой я мечтал о космических путешествиях, – вспоминал позднее ученый. – Мысли эти я высказывал среди окружающих, но меня останавливали как человека, говорящего неприличные вещи».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу