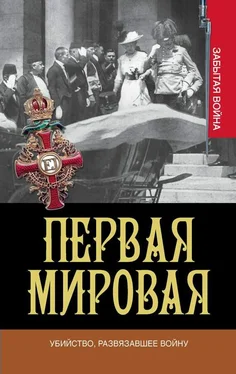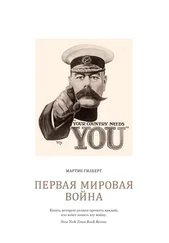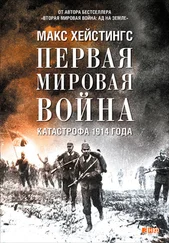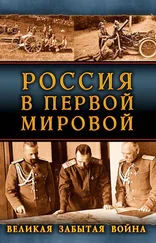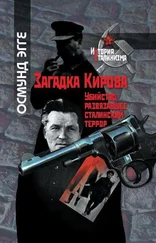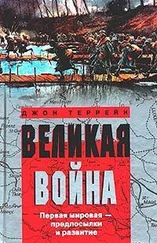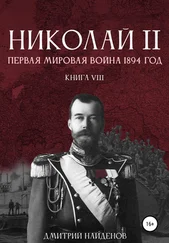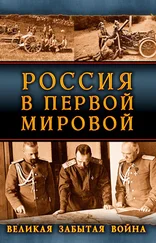Похороны Франца Фердинанда и Софии состоялись в одиннадцать утра в часовне Артштеттена. Провожающие собрались под сводчатым потолком часовни с серебряными люстрами и слушали, как прелат Добнер фон Добнау (Dobner von Dobneau) из соседнего монастыря Марии Тафель «просто, но достойно» провел службу. К полудню все закончилось: зазвонили колокола, и унтер-офицеры 4-го драгунского и 7-го уланского лейб-гвардейского полков подняли гробы с траурных катафалков и вынесли из часовни. Шторм начался снова, и небеса опять разверзлись, когда печальная процессия направилась в новый склеп Франца Фердинанда, расположенный ниже церкви. Когда они вошли в него, им пришлось следовать по крутому повороту, по поводу которого Франц Фердинанд раньше шутил, что когда его будут проносить там, то неизбежно стукнут его гроб о стену. Теперь его предсказание сбылось: когда несли черный гроб из позолоченной бронзы из крутого поворота и вносили в двери усыпальницы, они покачнулись и еле удержали его в руках. В усыпальнице в сводчатой нише располагались две одинаковые белые мраморные гробницы, на которых по-латински было написано: «Iuncti coniugio Fatis iunguntur eisdem» («Объединившись в браке, они разделили одну судьбу»). Франц Фердинанд и София вместе упокоились в вечности.
Глава XIX
СЛОМЯ ГОЛОВУ К ЗАБВЕНИЮ
По мнению большинства людей, события в Сараево были трагедией, но не многие думали, что вскоре проявятся серьезные последствия произошедшего этим безмятежным летом 1914 г. Беспорядки и локальные конфликты происходили регулярно, но никаких крупных военных действий не случалось, начиная с Франко-прусской войны 1870-х гг., никто не ждал их и сейчас. Учитывая то, что заговорщики были сербскими националистами, люди ожидали, что все ограничится лишь австрийским бряцанием оружием и дипломатическими угрозами Белграду, но в конечном счете мир снова возобладает. И в аристократических кругах эти тревоги быстро сменились мыслями о получении удовольствий: окончанием лондонского сезона, праздниками в Мариенбаде и в Довиле, азартными играми в Монте-Карло, роскошными обедами в парижском Maxim, и яхтингом в Киле или Коузе. Никто и не подозревал, что дни самодовольной Эдвардианской эпохи уже сочтены и им на смену приходил ХХ век, крещенный кровью Франца Фердинанда и Софии.
С тех событий прошло всего тридцать дней, как старый мир уже сломя голову бросился к забвению, а некоторые детали произошедшего убийства начали всплывать. Только Мехмедбашичу удалось спастись, бежав в Черногорию, которая, несмотря на договор о выдаче, отказалась передать его в Австрию и устроила ему побег. Принцип и Чабринович были арестованы в Сараево, и судья Лео Пфеффер в течение нескольких дней проводил допрос. Их последующая госпитализация скрыла тщательно утаиваемую роль «Черной руки» и сербских спецслужб в произошедшем. Подробности всплыли после того, как были схвачены и допрошены Илич, Чубрилович и Попович. В течение недели после убийства австрийские чиновники уже знали о причастности высокопоставленных сербских офицеров, в том числе о том, что майор Танкосич и Милан Циганович тренировали Принципа и его товарищей в Белграде; о том, что заговорщики были вооружены бомбами и револьверами из сербских военных арсеналов; о том, что сербские государственные служащие помогли им переправиться в Боснию. Хотя противоречивая информация и намеренная ложь привели к тому, что Австрия ошибочно обвинила Narodna Odbrana в подстрекательстве и пособничестве заговору, основные выводы были сделаны правильно.
Сербия разрывалась между попыткой примирения и открытым неповиновением. Через два дня после убийства Белград заверил Вену, что «будет сделано все, чтобы доказать, что не потерпит в пределах своих границ любую деятельность и агитацию… направленные на то, чтобы разрушить союз с Австро-Венгрией». Еще через несколько часов после этого сообщения министерство иностранных дел в Белграде отреагировало на просьбу Австрии о сотрудничестве резко и пренебрежительно: «Пока что еще ничего не было сделано, и не по вине правительства Сербии».
Теперь в Вене полагали, что все это являлось достаточным основанием, чтобы начать активные действия против Белграда. Как и следовало ожидать, Конрад фон Хётцендорф предложил немедленно начать военные действия против Сербии. Но дипломаты были несколько осторожнее: война могла быть необходимой и даже желательной, но прежде чем ее начать, нужно заручиться общественной поддержкой и согласием со стороны главного союзника Австро-Венгрии — Германии. Первый вопрос вскоре разрешился сам собой: как уже говорилось, не все обожали Франца Фердинанда, но многие видели в нем будущего спасителя империи. Убийство его и Софии вызвало широкое негодование. Их смерть в Сараево от рук террористов, признавшихся в своих связях с должностными лицами Сербии, настроила общественное мнение против Белграда. Более того, открытое ликование произошедшим убийством на страницах ряда изданий сербской прессы еще больше распалило австрийскую общественность. Когда после их появления Вена выразила протест, сербский премьер-министр Пашич ответил, что он не может вмешиваться в дела свободной прессы, только если она не занимается открытой «революционной пропагандой» или «lèse-majesté» ( фр . оскорбление монархов. — Прим. пер .) сербского трона. Но эта отговорка не удовлетворила Вену: получалось, что Пашич будет действовать, если белградские газеты напечатают что-то против сербского короля, но радостные статьи об убийстве наследника Австро-Венгрии считались приемлемыми. Все это способствовало тому, как отмечал британский посол в Вене сэр Морис де Бунзен, что только росло взрывоопасное настроение в обществе. Он сообщал, что в стране зрело чувство, что Австрия «теряет свое положение великой державы, если она проглатывает любую чепуху, которую предлагает ей Сербия».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу