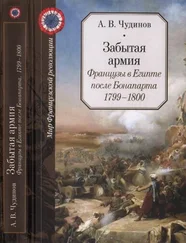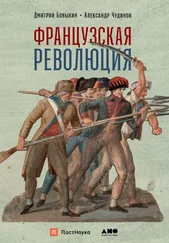В диссертационном же исследовании, идя строго от фактов, от документов, Тарле, напротив, достаточно откровенно говорит об издержках революционных преобразований, рисуя весьма мрачную картину повседневной жизни французов и, прежде всего, социальных "низов" в период Революции. При этом историк откровенно признает, что в тяжелейшем экономическом и социальном кризисе, переживавшемся в тот момент Францией, было виновато не только и не столько временное расстройство хозяйственной жизни, неизбежно сопряженное с войной и внутренними неурядицами, сколько политика революционного правительства — "максимум", реквизиции, террор. [24] Тарле Е.В. Рабочий класс во Франции в эпоху Революции // Тарле Е.В. Сочинения. М., 1958. Т. 2. Гл. 5.
Правда, в отличие от первой работы, обращенной к широкой публике, диссертационное исследование в силу особенностей жанра было достоянием лишь узкого круга специалистов.
Подобные различия в освещении Революции одним и тем же автором в сочинениях, предназначенных разной аудитории, отнюдь не случайны. Другие либерально настроенные историки того времени в работах, рассчитанных на сколько-нибудь широкий общественный резонанс, также предпочитали обходить стороной "неудобные" факты, способные бросить тень на идеализированный образ Революции. О вполне сознательном выборе такого ракурса освещения истории прямо пишет в своих мемуарах мэтр "русской школы" Н.И. Кареев:
«По старой традиции, воспитавшейся на более ранних историях революции (Минье и Тьера, Мишле и Луи Блана), бывших её апологиями, прежде всего бросалась в глаза казовая, героическая, праздничная сторона революции, сделавшаяся поэтическою легендою. Клятва в Jeu de paume, взятие Бастилии, ночь 4 августа, праздник федерации, "Декларация прав", "Марсельеза" — какие это, в самом деле, красивые, эффектные вещи, способные настраивать на повышенный тон. Но все это именно поэтическая, праздничная, казовая сторона революции, у которой была своя проза, свои будни, своя изнанка, рядом с героизмом, своя патология» [25] Кареев Н.И. Указ. соч. С. 289.
.
И хотя об этой "прозе" и "патологии" либеральные историки знали, писали они в основном всё же о "казовой" стороне. Это, впрочем, неудивительно: стремясь внести посильный вклад в общественно-политическое движение за обновление российской действительности, они в своих выступлениях, рассчитанных на широкую публику, трактовали Французскую революцию не столько как реальное событие прошлого, сколько как олицетворение либерального идеала, который, мечтали они, станет будущим России. Н.И. Кареев так вспоминал о своей политической деятельности в период первой русской революции: «На митингах и на предвыборных собраниях выступал очень часто в самых различных помещениях, обыкновенно с изложением основных принципов (конституционно-демократической — А.Ч.) партии, сводившихся мною главным образом к идеям "Декларации прав человека и гражданина" времен Французской революции…» [26] Там же. С. 235.
И уж если даже профессиональные историки были не слишком беспристрастны в освещении французских событий конца XVIII в., то, тем более, этого трудно было ожидать от публицистов и популяризаторов, активно обращавшихся к данной теме во время и после революции 1905–1907 гг. Рассказ об истории Французской революции служил для них поводом выразить, прямо или косвенно, своё негативное отношение к российской действительности и призвать к её изменению революционным путем. Соответственно эти авторы пытались придать Франции Старого порядка сходство с российскими реалиями XIX — начала XX в. Так, монархию Бурбонов они упорно отождествляли с русским самодержавием (о чем речь подробно пойдет ниже, в третьей главе) и порой даже приписывали французским крестьянам веру в "короля-батюшку" [27] Николин Н. (Андреев Ник.) Великий переворот, или Великая французская революция. СПб., 1908. Ч. 2. С. 3.
. Самих же крестьян изображали крепостными [28] См.: Там же. СПб., 1907. Ч. 1. С. 10–12; Оленина М. Весна народов (Великая французская революция). Н. Новгород, 1906. С. 10, 75–76; Эфруси Е. Великая революция во Франции. М., 1908. С. 3–4. Характеристику крестьян предреволюционной Франции как крепостных или полу-крепостных можно также встретить во многих публицистических и популярных работах, вышедших в России вскоре после Революции 1917 г. См., например: Стражев А.И. Как французы добыли и потеряли свою свободу (Из истории Великой революции). М., 1917. С. 7–8; Волькенштейн О.А. (Ольгович) . Великая французская революция 1789 г. М., [1917]. С. 6, 19; Богданович Т.А. Великая французская революция. Л.; М., 1925. С. 5, 195.
: хотя это не имело ничего общего с действительностью [29] Подробно о статусе крестьян в предреволюционной Франции см.: Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987. Гл. 1. § 2.
, но зато придавало предреволюционной Франции черты, легко узнаваемые русскими читателями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
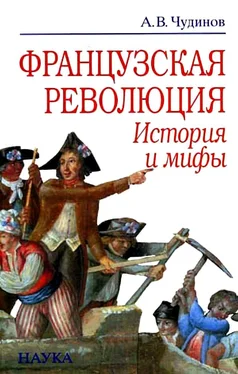
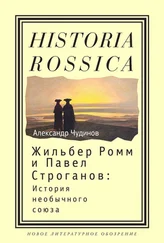
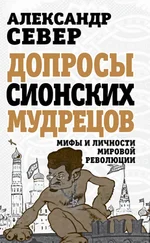
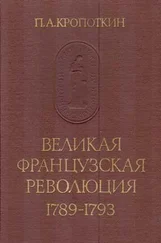
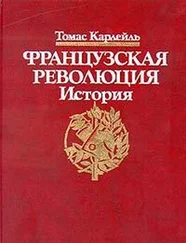



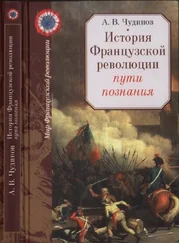
![Александр Чудинов - Французская революция [litres]](/books/393253/aleksandr-chudinov-francuzskaya-revolyuciya-litres-thumb.webp)