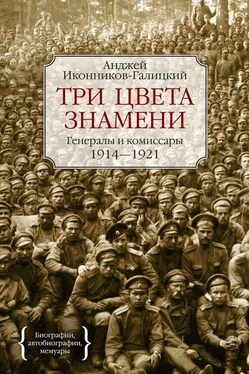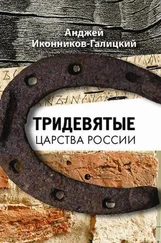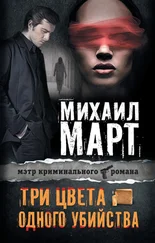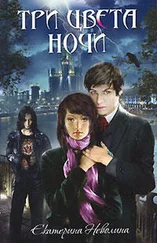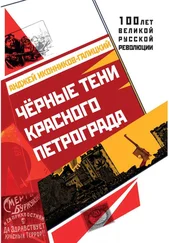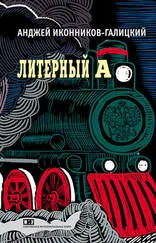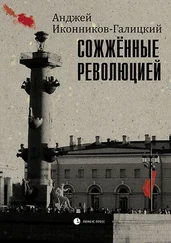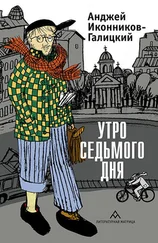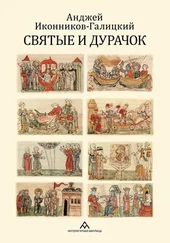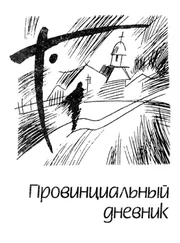«Той» России нет. Но ведь какая-то есть, ведь не исчезла же она, одна шестая часть суши! Вот она, вот, перед нами, и мы видим ее, но узнать не можем. И мы не можем принять ее, и она нас.
Впрочем, это отвлеченные рассуждения. А война – конкретна. Она требует людей. В начале 1918 года Белое движение было слабо: люди хотели мира, какого угодно, любой ценой. Но к лету ситуация изменилась. Мирный договор в Брест-Литовске был подписан, армия демобилизована.
И тут оказалось…
Первое: цена мира непомерна. Расчленение российской территории, грабительская контрибуция похуже ордынской дани, унизительное чувство всенародного провала.
Второе: среди миллионов демобилизованных не всем мирная жизнь пришлась по душе. А удаль? А риск? А подвиг? Скучно сидеть на печи. Не лучше ли пойти погулять по волюшке, да с оружием, принесенным с войны…
Третье: да мира-то нет, его нет дома, в тылу. Два простых слова, под воздействием которых развалилась в 1917 году русская армия – «мир» и «земля», – столкнулись друг с другом, и произошел взрыв. Коль настал мир, надо делить землю. А как? И началась война за землю – ту самую, которая и есть Россия.
Конфликт из-за земли между малоимущими «иногородними», которых поддерживало правительство Ленина, и коренными казаками, организованными и сплоченными, привел ко всеобщему казачьему восстанию против Советов. Ситуация на всем Юге России изменилась. Летом 1918 года добровольцы Деникина при поддержке кубанских казаков Шкуро отвоевали Кубань. В ноябре рухнула добитая западными союзниками и революцией Германия. Появилась надежда: теперь-то большевикам, германским шпионам, не устоять! При поддержке былых союзников, Антанты, – объединить усилия в борьбе! Глава Дона атаман Краснов, нуждаясь в помощи профессиональных военных, заключил союз с Деникиным. Дон снова поднял трехцветное знамя.
В январе – феврале Вооруженные силы Юга России разгромили красных на Северном Кавказе. В апреле – мае перешли в наступление в Нижнем Поволжье и в Донбассе. В июне взяли Харьков, Екатеринослав [99], Царицын [100].
3 июля главнокомандующий Деникин подписал директиву:
«Имея конечной целью захват сердца России – Москву, приказываю:
1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов – Ртищево – Балашов… и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Владимир, Москву…
2. Генералу Сидорину… продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин – Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол, Елец, Кашира.
3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав – Брянск…» [101]
Смысл этого документа укладывается в два слова: «На Москву!»
Летом и осенью 1919 года судьба России, да, может быть, и всего мира, решалась на пространствах между Доном, Днепром и Окой, где в вихре встречных боев, стремительных обходов и тыловых рейдов сошлись Красная армия и Вооруженные силы Юга России. Во главе этих войск стояли два выученика одной школы, два выпускника Императорской Николаевской академии Генерального штаба. Они не были вождями своих армий, скорее профессионалами-штурманами, волей обстоятельств оказавшимися у руля почти неуправляемых, несущихся навстречу друг другу кораблей. И вот что удивительно: в то время как главнокомандующим армиями «их превосходительств» был внук крепостного крестьянина Антон Иванович Деникин, главкомом армии рабочих и крестьян был назначен потомственный дворянин, военный интеллигент, кабинетный работник, бывший Генерального штаба полковник Сергей Сергеевич Каменев. Вот уж действительно: свой среди чужих, чужой среди своих.
Сергей Сергеевич Каменев – герой полузабытый. И в Советской стране, и в мире русской эмиграции о нем редко вспоминали, мало писали. В Советской-то стране его имя долгое время вообще пребывало под запретом. В 1937 году он (редкий случай) посмертно был причислен к лику врагов народа. И хотя после ХХ съезда партии обвинения с него были сняты, все-таки советские военные историки и авторы популярных книг предпочитали о нем помалкивать.
Но затененность его образа объясняется не только этим. Он вообще до странности неброский человек. Хотя внешностью обладал неординарной: высокий, крепкий, черты лица правильные, можно сказать красивые. Глаза крупные, стеклисто-влажные. Взгляд внимательный, проникновенный. И главная примета: огромные роскошные усы. Не усы, а усищи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу