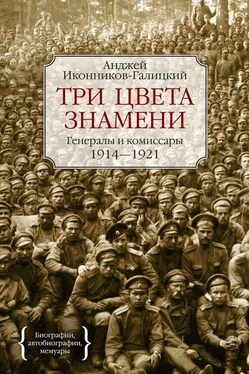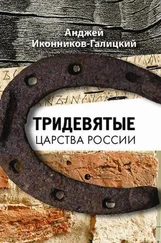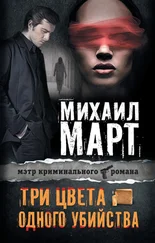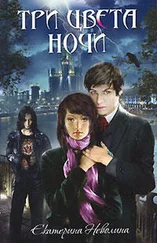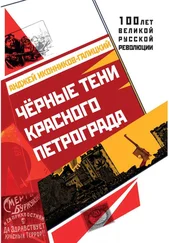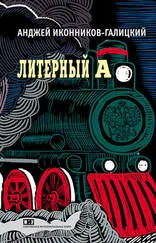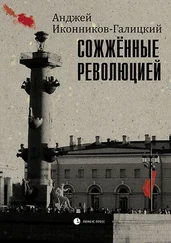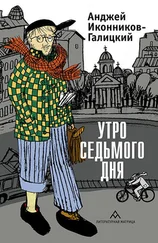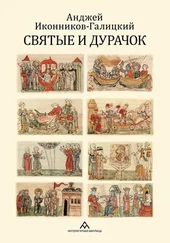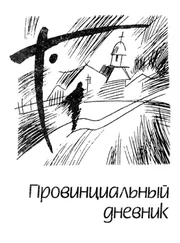Деникин описывает ситуацию динамичнее и короче:
«Я вызвал к телефону своих трех командиров полков и, очертив им обстановку, сказал:
– Наше положение пиковое. Ничего нам не остается, как атаковать.
Все три командира согласились со мной.
Я тут же отдал приказ дивизии: атаковать Луцк с рассветом. <���…>
Вслед за сим Зайончковский донес о взятии им Луцка. Но на его телеграмме Брусилов сделал шутливую пометку: „…и взял там в плен генерала Деникина“» [89].
Свою долю желчи и скепсиса в луцкую историю вносит генерал В. И. Соколов:
«За взятие Луцка, в котором главная тяжесть и честь боя принадлежала VIII корпусу, Деникин получил одну из редких боевых наград – бриллианты на Георгиевское оружие, ибо въехал в Луцк в автомобиле и там с драгунами кого-то побеждал, как значилось в газетах; как это возможно сделать при наличии перед Луцком заблаговременно укрепленных позиций с 9 рядами проволоки, если предварительно не взять эту позицию, газетным писакам, да, по-видимому, и высокому начальству не приходило в голову, но факт взятия Луцка Деникиным на автомобиле закрепили осыпанным бриллиантами Георгиевским оружием. Возбужденному по этому поводу протесту VIII корпуса, конечно, не только не был дан ход, но он даже не дошел до адресата, бывшего начальника штаба фронта Клембовского» [90].
Здесь Соколов смешивает два эпизода: взятие Луцка в сентябре 1915 года, породившее полулегендарную историю о въезде комдива в пылающий город на автомобиле, и штурм того же города в мае 1916 года. За первую удачу Деникин был произведен в генерал-лейтенанты, за вторую получил то самое георгиевское оружие с бриллиантами. Заметим, что такую награду за всю Первую мировую войну получили всего восемь человек, причем за наступление Юго-Западного фронта в 1916 году – двое: Брусилов и Деникин.
Во втором взятии Луцка в ходе Брусиловского прорыва дивизия Деникина участвовала, наступая на самом что ни на есть Центральном направлении – штурмуя в лоб оборонительные рубежи противника, пробивая кровавый путь на запад. 22 мая пошли в атаку; к утру 23 мая прорвали первую полосу у деревни Жарнище. За первой полосой обороны была вторая, пробитая на следующий день; за второй третья – опирающаяся на извилистую речку Стырь.
Участник прорыва Е. Э. Месснер:
«Третья вражеская фортификационная полоса в оперативном коридоре, которым шла Ровненская группа, лежала на восточном берегу реки Стырь, прикрывая Луцк и переправу в нем, а также мостовые переправы выше и ниже по течению реки. Укрепления были очень солидны, в особенности по сторонам от Ровно-Луцкого шоссе, где предстояло атаковать 4-й стрелковой и 15-й пехотной дивизиям… Нам надо было атаковать поспешно, пока противник подкреплен лишь местными резервами, пока не подошли свежие силы из тыла. Начальники двух дивизий – генералы Деникин и Ломновский, не сговариваясь, решают атаковать, что называется, с ходу: развернули свои походные колонны в боевой порядок и дали приказ: пехоте атаковать, а артиллерии поддержать атаку. Бой начался часов в 9 утра 25 мая. <���…>
Под вечер 25 мая 4-й стрелковой дивизии удалось ворваться и прорваться через укрепленную полосу врага. Прорвалась затем и 15-я пехотная дивизия. Обе устремились вперед: 15-я – на Луцк, как ей было заранее указано, а 4-я – к реке Стырь; но и ее, словно магнит, притягивал Луцк, и поэтому ее левый фланг захватил одно из предместий города, когда полки генерала Ломновского брали город и мостовую переправу в центре его. Ночью обе победоносные дивизии переправились через Стырь. Враг бежал. 25 мая число пленных возросло до 1240 офицеров и 71 000 солдат, а количество трофеев увеличилось до 94 орудий, 232 пулеметов и бомбометов» [91].
Луцк был взят, но дальнейшее наступление замедлилось. Продвигаясь вперед, на Ковель, дивизия лоб в лоб столкнулась с переброшенными с севера немецкими частями. С середины июня развернулись кровавые и малорезультативные встречные бои на Ковельском направлении. Сюда подходили все новые резервы, здесь они таяли, перемалывались, истекали кровью. Таяла и дивизия Деникина. Бои шли за крохотные деревушки, малоприметные высоты, ложбинки, рощицы. Стратегические задачи наступления растворялись, тонули в море дробных и невыполнимых тактических задач. По мере того как утрачивался смысл сражения, командиры переставали понимать суть происходящего, теряли видение боя.
Из воспоминаний барона Карла Маннергейма, в 1916 году генерал-майора, начальника 12-й кавалерийской дивизии (той самой, которой в начале войны командовал Каледин):
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу