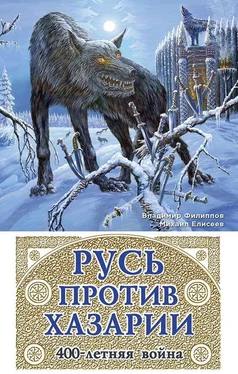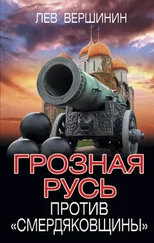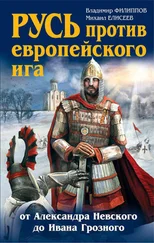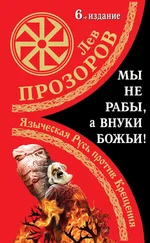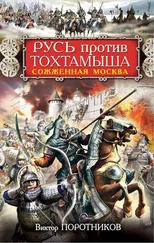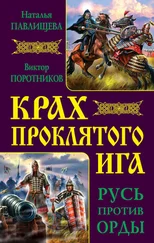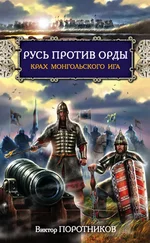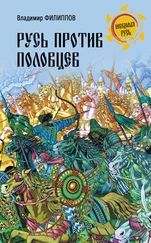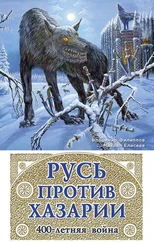Олег никогда бы не выступил как чей-то неполноправный союзник. Это он-то, человек, прибивший щит к воротам Царьграда! И некоторые историки, возможно, справедливо считают, что это было актом того, что с этого момента он берет город под свою защиту. Неважно, что за откуп сие делает. Неважно, что за плату. Важно иное: Олег мог себе это позволить. И ни Вениамину, ни Иосифу, никакому иному Песаху такое не могло даже присниться. И государство Игорю Вещий оставил действительно могучее и грозное, а не чью-то зону влияния. Он оставил Игорю Русь!!! Хотя, возможно, и не без боя.
Польский историк XVIII века Х.Ф. Фризе выдвигал версию, что у Вещего Олега был сын, Олег Моравский, который после смерти отца был вынужден покинуть Русь в результате борьбы с князем Игорем. Возможно, что, получив повзрослевшего и самостоятельного наследника, клан Игоря решил совершить переворот и изгнать князя-руса обратно туда, откуда он и пришел. Эта борьба за власть и послужила сигналом для остальных славянских племен. Вероятно, они рассчитывали, что, пока идут в Киеве внутренние разборки, на них не хватит ни времени, ни сил. Но даже в этом случае правители славянских земель ошибались. Русь все больше стремилась вести имперскую политику, и с этой дороги ее уже было не свернуть.
Родственник же «Рюриковичей» Олег Моравский стал последним князем Моравии в 940 году, согласно сочинениям польских и чешских писателей XVI-XVII веков, однако его родственная связь с Вещим Олегом является лишь предположением Фризе. Никаких иных доказательств этому мы не имеем. Если же это действительно так, то это только подтверждает нашу теорию о борьбе за власть в Киеве двух кланов.
Что случилось с Вещим Олегом, до конца не ясно. Гадать мы не будем. Остановимся на том, что у нас есть сейчас. Возможно, эта тема станет предметом для какой-то из будущих книг.
Время его смерти и причины ее русские летописи датируют по-разному: «Повесть временных лет» – 912-м, а Новгородская первая летопись младшего извода – 922 годом. По одним сведениям, Олег был похоронен в Киеве на горе Щековице, по другим – в Ладоге. «И прозваша и Олга вещии; и бяху людие погани и невегласи. Иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе» ( Новгородская I летопись младшего извода ).
Историк А.А. Шахматов отметил, что 912 год является также годом смерти византийского императора Льва VI – антагониста Олега. Возможно, летописец, знавший, что Олег и Лев были современниками, приурочил окончание их правлений к одной и той же дате.
Разница в датах составляет целых десять лет!
Учитывая к тому же, что новгородская традиция относит смерть Олега к 922 году (см. выше), дата 912 становится еще более сомнительной. Продолжительность княжения Олега и Игоря составляет по 33 года, что вызывает подозрение в былинном источнике этих сведений.
Опять же, вариации, вариации, вариации…
Разногласий много, о смерти героя историки спорят и по сей день.
«Эти разногласия летописцев дали основания ученым утверждать, что на Руси имелось два (а быть может, и больше) крупных полководца и государственных деятеля, носивших имя Олег» ( О. Рапов ).
Это еще одна довольно популярная последнее время версия, что Олег был не один, а было их целых два. Просто второй не упоминался, а имена были одинаковые, а возможно, второй был вообще Олег Олегович. Сын первого Олега Вещего.
В общем, с ума сойти можно. Тут на страницы так и просится цитата из легендарного фильма и не менее легендарной пьесы про «Ивана Васильевича»:
Я к и н. Позвольте! В наши дни, в Москве!.. Нет, это… Он же умер!
И о а н н. Кто умер?
Я к и н. Я… я не про вас это говорю… это другой, который умер… который… Доктора мне!.. Я, кажется, сошел с ума…
Этот случай выглядит похожим.
Долго с этим открытием мы разбираться не будем. Скажем сразу, не тратя время, что все это ерунда, притянутая за уши и рожденная в воспаленном воображении. Она даже не стоит серьезного разбора. Каждый хочет открыть сокровенную тайну, особенно там, где никакой тайны и вовсе нет.
Летописи, они, конечно, опора довольно шаткая. Они могут что-то выпустить, переиначить в угоду тому или иному политическому деятелю, дать свою интерпретацию событию, причем не всегда правильную. Это все допустимо. Это все бывало. Но никогда не бывало одного. Правители, какие бы они ни были и сколько бы они ни правили, из русских летописных свитков не выпадали ни-ко-гда! Тем более из всех сводов разом. Такого быть просто не могло. Летописцы, чтобы была возможность князей различать, даже давали им задним числом, уже после смерти, прозвища. Иногда совсем не те, что их герои имели при жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу