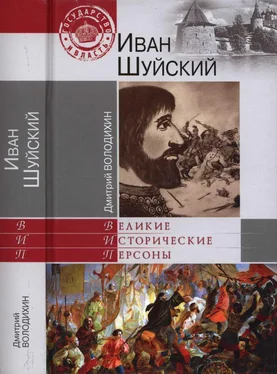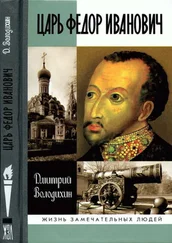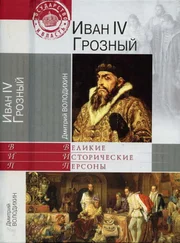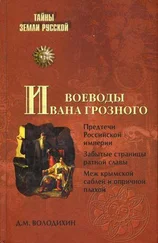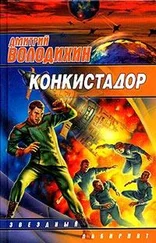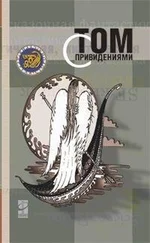Мощь городских оборонительных сооружений вызывала почтительное отношение даже у противника: «Со всех сторон имеются очень крепкие башни, сделанные из… камня. Так как башни прежней постройки недостаточно были равны между собою и вследствие того не прикрывали себя взаимно от пушечных выстрелов, направленных от одной к другой, то, поставив с углов тех новые стены и покрыв их весьма толстым дерном, и разместив по ним окна (бойницы) он (московский царь) устроил так, что они находились на равном друг от друга расстоянии. У тех же башен, которые оказались частью слишком тесными, частью слишком непрочными для того, чтобы могли выдержать выстрелы от тяжелых орудий, с внутренней стороны на удобных местах расставил другие башни… деревянные, сделанные с великим тщанием из самых крепких бревен и снабдил их достаточным количеством больших пушек… Так как московский царь… полагал, что нисколько не должно сомневаться в том, что король по взятии Лук направится ко Пскову, то снабдил его весьма хорошо всем нужным для выдержания осады и приказал все свезти туда в огромном количестве»389. Пороха, снарядов, продовольствия в городе хватало. Он был обеспечен всеми необходимыми для «осадного сидения» припасами.
Расположение псковских укреплений фактически диктовало осаждающим план их штурма. Захват Запсковья ничего не решал: даже в случае успеха королевская армия оказалась бы перед водной преградой (Псковой) и высокими стенами Крома. Атака через реку Великую, пока ее не сковал лёд, была бы, несомненно, безумным предприятием. Форсировать полноводную Великую под огнем русских пушек и пищалей значило обрекать армию на истребление. Таким образом, оставался Большой город. Точнее, южный — юго-восточный участок его стен, не защищенный от вражеского приступа реками. Но здесь и укрепления были наиболее мощными. Ключом ко всей позиции оказалась Покровская башня. Именно она представляла собой наиболее уязвимое место Большого города. По ней королевские артиллеристы могли вести огонь с трех сторон: с юга (фронтальный обстрел), от позиций в районе Мирожского монастыря (фланговый обстрел) и, хуже всего, еще из-за реки Великой, в тыл. Соответственно главные силы защитников города концентрировались именно здесь.
К ночи с 5 на 6 сентября поляки и венгры подошли достаточно близко к стенам, чтобы можно было поставить шесть первых осадных пушек на позицию. В следующую ночь они выдвинули остальную осадную артиллерию.
7 сентября началась бомбардировка города. Три батареи — одна польская и две венгерских — непрерывно били в стену и башни южной части укреплений. Одна из них вела огонь из Завеличья.
«Стены клубились, как дым; мы не думали, что они будут так непрочны… — пишет участник осады. — В окопах убили пушкаря и из мортир — несколько рядовых: но без этого обойтись нельзя. Из города стреляют тоже не дурно, но из названных двух башен русские должны были поспешно убрать орудия в другое место и прекратить пальбу»390.
Могучие оборонительные сооружения Пскова казались несокрушимыми. Но эта иллюзия была развеяна очень быстро. Польским и венгерским артиллеристам, располагавшим современной артиллерией, удалось всего за один день нанести городским укреплениям страшный ущерб. Сказалась непрочность строительного материала, да и то, что цельнокаменные стены элементарно не были рассчитаны на такую бомбардировку.
Пушкари королевской армии снесли своим огнем Покровскую башню, разбили стену на двадцать четыре сажени рядом с нею и еще на шестьдесят девять — в других местах, сильно повредили Угловую и Свинусскую391 башни. Такие проломы как будто зазывали неприятеля совершить дерзкую атаку. Именно это и произошло: король отдал приказ начать общий штурм на следующий день.
Псковские воеводы отлично видели, с какого направления исходит основная угроза городу. В наиболее опасном месте — на участке от Покровских до Свинусских ворот — Иван Петрович поставил князя Андрея Ивановича Хво- ростинина, надеясь на его опытность и отвагу.
8 сентября штурм начался. Несколько десятков «охотников» осторожно двинулись к проломам, чтобы осмотреть их и, вернувшись, дать рекомендации к наилучшему проведению штурма. Когда они вышли, артиллерия и стрелки осаждающих открыли огонь по тем участкам стены, которые не были разрушены до того, — для отвода глаз.
Как только «охотники» начали свое дело, остальные — венгры, а за ними немцы, поляки — бросились вперед безо всякого порядка, не дожидаясь возвращения разведчиков. В лагере Батория велик был энтузиазм по поводу предстоящего штурма. Немало отыскалось добровольцев — попытать счастья в проломах. Поэтому, когда у венгров не выдержали нервы, остальных невозможно было остановить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу