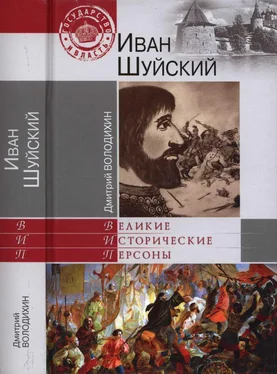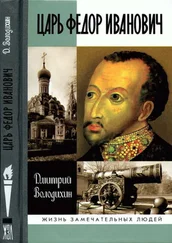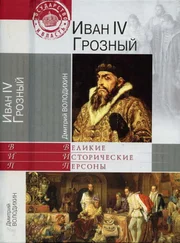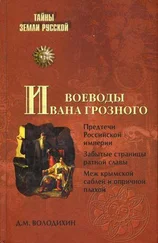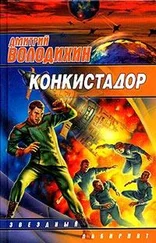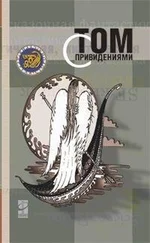В книге 2009 г. «Митрополит Филипп» Володихин обращается к иному образу, к иному лику XVI столетия. Мятущемуся, сложному и нередко губительному, в том числе и для себя самого, характеру монарха сопоставлена и в итоге противопоставлена красота чистой святости. Володихин создает удивительный образец научной агиографии — подлинное житие христианского святого, написанное средствами современной науки. И в то же время чрезвычайно далекое от публицистической однозначности, столь хорошо известной по многим художественным описаниям столкновения царя и митрополита.
Одновременно Володихина все более занимает и другая проблема, другая тема для исторического и персональноисторического исследования — личные судьбы и общий «характер» господствующего слоя грозненской России, служилой знати. В 2009 г. выходит работа «Воеводы Ивана Грозного», включающая жизнеописания пятерых полководцев XVI в. — Д.И. Хворостинина, И.П. Шуйского,
И.Ф. Мстиславского, С.И. Микулинского и М.И. Воротынского. Начатые уже в этой книге авторские размышления о месте и роли опричнины в истории Московского государства продолжены следующей, 2010 г. — «Опричнина и “псы государевы”». Здесь опричнина последовательно показывается «глазами» царя Ивана Грозного и самих его «псов». Перед взором читателя проходят опричные аристократы — А.Ф. Басманов, Ф.М. Трубецкой, В.И. Темкин- Ростовский, А.И. Вяземский, и «худородные выдвиженцы» Ивана — М.А. Безнин и Малюта Скуратов. Произведенный в этих двух работах анализ причин и последствий опричнины позволил автору сделать убедительный вывод — опричнина являлась военно-административной реформой, вызванной противоречиями в среде самой высшей знати. Причем реформой она оказалась неудачной, приведшей ко многим трагическим последствиям — в том числе и к военным неудачам. Почти ни к каким существенным изменениям в структуре господствующего класса опричнина не привела — высшая власть в стране была и осталась в руках немногих знатнейших родов.
И вновь, как бы уравновешивая столь щедро нарисованные в этом цикле картины кровавых браней и придворных битв честолюбия, Володихин обращается к жанру историко-житийному. Книга «Царь Федор Иванович» вышла уже в 2011 г. и до сего дня являлась самой свежей работой автора. Володихин пересматривает сложившийся в научно-популярной, а отчасти и в серьезной научной литературе взгляд на последнего московского Рюриковича как на «слабоумного». Политическими дарованиями царь действительно не обладал, однако его благочестивая кротость оказывается той единственной скрепой, которая удерживала Россию от сползания в Смуту — и которой не хватило после его кончины, при всем политическом разумении Бориса Годунова.
И вот теперь из-под пера автора вышла развернутая биография князя Ивана Петровича Шуйского, героя Псковской обороны 1581–1582 гг. и знаменитейшего противника Годунова в следующее царствование. Впрочем, как убедились уже читатели книги, ее тема гораздо шире. В ней можно найти, например, подробное описание московско-литовского противостояния за западнорусские земли. Среди главного же — Володихин продолжает начатое групповыми жизнеописаниями воевод исследование судеб русской аристократии XVI в., глубокие историософские размышления о ее характере и роли в истории Отечества.
Бремя лучших. Об аристократии и аристократах
Володихин в рамках биографической работы, неизбежно ограниченный ими, делает, по сути, набросок, историко-психологического анализа целой сословной группы — в лице одного из лучших ее сынов. Автор размышляет: каким образом сочетались в русской аристократии XVI в. столь разнонаправленные порывы? Каким образом сегодняшний герой, спасающий страну от внешнего врага, завтра обращается в смутьяна и заговорщика, расшатывающего ее же основания? И все это как будто без перехода, нередко между другими, весьма достойными делами. Подумаем и мы вслед за автором.
Явление это — не только русское. Все древние и средневековые общества, с неизбежными отличиями, рождали один и тот же тип людей — породу воинов, созданных сражаться и править. Зародившись в глубинах варварства, когда единственным его назначением было убивать врагов на войне и в разбойничьем набеге, за тысячелетия воинский слой окреп, обернулся наследственной знатью, а с появлением государства обрел новый смысл. Ибо тем, кто защищал государство, дарована была — справедливо ли, нет ли, — власть в нем, власть над землями и народами. Власть, ограниченная лишь первым среди тех же равных — царем, королем, великим князем. С этого времени молодого «воина» сызмальства учили уже и управлять людьми — и не только в военном походе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу