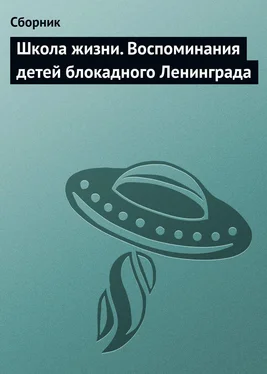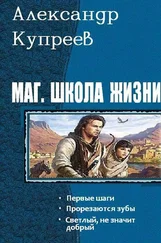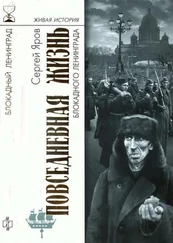Обычно, когда все дети просыпались, в лагере звучала песня «Нас утро встречает прохладой…» или еще какая-нибудь пионерская, веселая. А в этот день никакой песни не было, трубач протрубил подъем, и появились наши родители. Взрослые приехали рано-рано, никогда такого не было, и у всех на устах было одно слово: «Война!» Все забегали, стали собираться, быстренько разобрали детей, было уже не до завтрака и не до праздника, каким обычно был родительский день. И тут случилось самое страшное для меня — все бежали наискосок, прямо через эту красивую клумбу с календарем, и в спешке, конечно, растоптали всю эту красоту, мою работу, которую я так кропотливо и заботливо оформляла. Поэтому тогда известие о войне я почти не восприняла, настолько было сильным это впечатление от разрушенной, растоптанной, созданной тобою красоты. Было много обиды, много слез. Мама пыталась меня успокоить, привести в чувство. Она говорила: «Враги сейчас вот так же топчут нашу землю, а ты переживаешь о календаре». В этот раз мама приехала одна.
Папа вообще приезжал редко, он был военным. Потом мама объяснила мне, что все мужчины, все папы ушли на фронт.

До 1937 года папа был политработником. Мы жили в доме комсостава, там же, где и Блюхер, Тухачевский. Однажды к отцу приходят и говорят: «Скажи на Тухачевского, что он враг». Он отказался. Отобрали у него партбилет, награды и лишили звания. С началом войны он ушел в народное ополчение и участвовал в боях в районе Синявинских болот.

Характер у меня изменился, я стала нервной, часто плакала, хотя до этого была веселым ребенком. В семье у меня появилось прозвище, частенько стали говорить: «Плаксита ты наша…»

Приехали домой. Там нас уже ждал мой старший брат Борис. Он недавно вернулся от бабушки Екатерины Аникеевны, у которой был на каникулах. Из Ораниенбаума, где она жила, Борис пришел пешком, а бабушка приехать не могла, она в это время работала в воинской части агрономом на подсобном огороде.
И началась у нас совсем другая жизнь. Время шло, и вскоре все мы начали понимать, что война — это не игра, и не так скоро она кончится, как этого всем хотелось.
Мама работала в ведомстве Октябрьской железной дороги, которое располагалось на Думской улице. Жили мы на Петроградской стороне, но на работу мама всегда ходила пешком, а во время войны тем более приходилось, так как транспорт не работал.
Мама была настоящей патриоткой, она сознательно осталась в Ленинграде, хотя на работе ей предлагали эвакуироваться, для служащих был выделен целый состав. Она говорила мне: «Мы должны защищать Ленинград, и именно такие Плакситы, как ты. Мы здесь родились, здесь и пригодимся».
И вот мама уходила на работу, брат поступил в ремесленное училище. А во время обстрелов он тушил зажигалки, часто приходил домой с обожженными руками.
Стало очень голодно, даже в самом начале блокады. До начала войны мама уборку генеральную делала, пересмотрели все продукты, и многое мы отдали дворнику кормить лошадей. Поэтому съестных припасов у нас было немного.

Мы с братом получали иждивенческие продуктовые карточки, и только мама — карточку служащей. Стали придумывать, что бы нам такое сделать, чтобы хлеба хватило на весь день. Выбрали меня как эконома. Я делила хлеб на кусочки, все это подсушивали на «буржуйке», которую брат принес однажды из училища, там эти маленькие печечки делали, труба такой печурки выходила в форточку. Топили «буржуйку» книгами и рамами от картин. Помню, что старые книги горели лучше новых, дубовые рамы от картин горели дольше книг.

У нас в семье строго-настрого запрещалось говорить о еде, и чаще всего я молча плакала при воспоминании о съестном. И все же мне было легче справляться с голодом, потому что до войны я была малоежкой. Именно поэтому в нашей семье мне доверили распределение хлеба. И вообще я была в семье самая маленькая, самая слабая и самая болезненная. Помощи физической от меня было мало — что-то я могла подать, что-то подержать, например, когда затемнение делали или заклеивали окна крест-накрест бумажными полосками, чтобы при взрывах не вылетели стекла.
Читать дальше