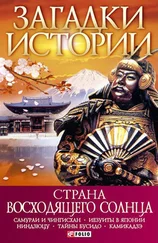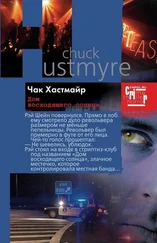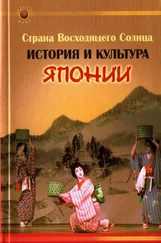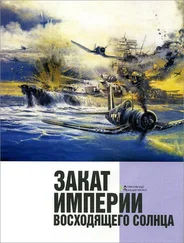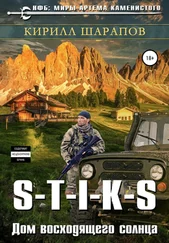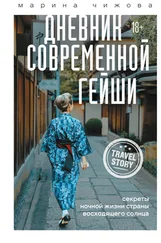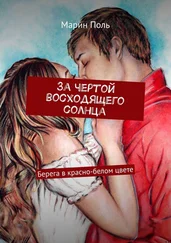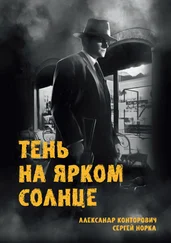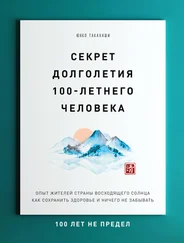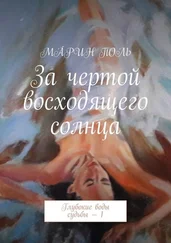Таким образом, вопрос об уровне японского языка у русских семинаристов остается до конца невыясненным. Да, налицо недовольство архиепископа Николая. Но не является ли оно следствием изначально завышенных требований этого выдающегося человека, самого блестяще владевшего языком? Вспомним еще одну известную запись из его дневника: «...успехи их в изучении японского языка — для чего и живут здесь — не блестящи: и способностями они не отличаются, и вечно болтают между собою по-русски, что значительно мешает усвоению японского языка» [58] Там же. Запись от 21 мая/3 июня 1911 г. С. 664.
. С одной стороны, претензия вроде бы обоснована, а с другой — можно ли представить сегодня студентов, например, Института стран Азии и Африки при МГУ, разговаривающих между собой исключительно по-японски? Да и сам владыка Николай отмечал, что, например, упоминавшиеся здесь Айсбре-нер и Шишлов, отчисленные на втором году обучения, «могут служить толмачами для устных переводов с японцами». Это ли не свидетельство высокого уровня интенсивности обучения в семинарии и соответствующего владения японским языком ее выпускниками? О своеобразии оценок архиепископа косвенно свидетельствует следующий факт. В 1909 году Токио посетил А.Н. Вентцель (Венцель)—товарищ (заместитель) председателя правления КВЖД и остался вполне удовлетворен уровнем японского языка у русских семинаристов:«...Дети эти живут и учатся среди японских мальчиков, что способствует более быстрому усвоению ими на практике изучаемого языка. Преосвященный Николай очень доволен успехами юных заамурцев и ожидает, что из них со временем выработаются весьма полезные для службы на Дальнем Востоке работники» [59] Цит. по Хохлов А.Н. Роль Токийской православной семинарии в подготовке переводчиков-японистов. // Православие на Дальнем Востоке. Выпуск 2. СПб,. 1996. С. 71.
.
Сохранилась нелестная характеристика уровня владения языком, данная авторитетным, известным, но в том числе и своим дурным характером, японоведом профессором Е.Г. Спальвиным: «Меньше всего владеют японским языком воспитанники духовной семинарии архиеп. Николая, но, как бы то ни было, этими людьми положено очень много труда на передачу русских литературных произведений...» [60] Там же. С. 64.
. Но тут не вполне ясно по тексту, о ком вообще идет речь: о выпускниках-японцах, ибо это именно они переводили на японский язык русских писателей, или все-таки о русских, так как понятно, что японцы-то японским языком владели. К тому же в высказывании Спальвина возможна не только некоторая нелогичность, но и, весьма вероятно, предвзятость. Не надо забывать и о дате отзыва: характеристика дана в 1926 году, когда любой положительный отзыв о «попах» мог автоматически перевести эксперта в стан «врагов трудового народа», а Спальвин тогда только что прибыл в Японию с официальной миссией и дорожил своим местом.
Любопытно, что, по воспоминаниям внука одного из семинаристов — В.В. Незнайко, его дед с некоторым пренебрежением отзывался о языковых способностях своих однокашников, особенно тех, кто содержался «не на казенный кошт», а на средства родителей или опекунов (таких было 2—3 человека). Но (у нас есть такая возможность) давайте сравним выпускные ведомости Исидора Незнайко и поначалу обучавшегося на средства опекуна Василия Ощепкова.
Незнайко окончил семинарию в 1912 году и получил в награду за успехи открытку с видом православной миссии и фотокарточку архиепископа Сергия (ставшего главой миссии после скончавшегося 16 февраля 1912 года святителя Николая) с дарственной надписью. Из 19 сдаваемых Незнайко предметов 7 относились к японской филологии (хотя и остальные изучались и сдавались на японском языке): «Чтение японских газет», «Японская грамматика», «Японский эпистолярный стиль», «Китайская письменность», «Японская письменная работа», «Японская словесность» и «Японская хрестоматия». По всем этим предметам он получил оценки «очень хорошо» и «хорошо».
Год спустя Ощепков сдавал другие выпускные экзамены, но в его программе было уже 8 предметов из области японской словесности: «Японская грамматика», «Японская хрестоматия», «Японское чистописание», «Японское сочинение», «Теория японской словесности», «Чтение японских писем», «Перевод японских газет» и «Китайская письменность». По трем из этих предметов Ощепков получил оценки «отлично хорошо» (5), а по остальным «Очень хорошо» (4). И в 1912, и в 1913 годах экзамены принимал митрополит Сергий, о котором сам архиепископ Николай писал: «Экзаменует отлично — строже, чем я» [61] Запись от 18 июня/1 июля 1909 г. // Дневники Святого Николая Японского. T.V. СПб., 2004. С. 539.
. Так что в данном случае речь, скорее, может идти о каких-то личных отношениях, о приязни и неприязни, а не об объективной оценке владения языком, тем более что нам неизвестно, кого именно из «частников» имел в виду И. Незнайко. Например, с тем же Ощепковым у него сложились очень неплохие отношения. Судя по всему, оба они — и Ощепков, и Незнайко — были в числе отличников, а Ощепков (единственный из второго набора семинаристов) удостоился многократного упоминания владыкой Николаем в его дневниках, да и в газете «Россия» преосвященный вспоминает об ученике с нескрываемой гордостью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу