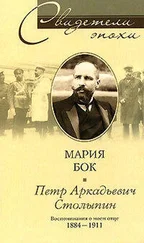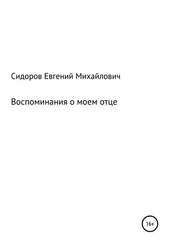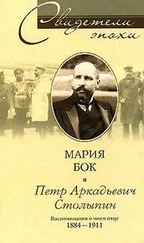- Ну, дети, бегите в кабинет за конфектами, - говорит мой отец, а моя маленькая сестра Олечек вдруг громко с чувством восклицает:
- Папa, как я вас люблю!
- Только за конфекты и любишь? - говорит, смеясь, папa.
- Нет, тоже и за подарки, - говорит Олечек, глядя своими честными детскими глазами прямо в лицо отца.
Долго ее, бедненькую, дразнили этой фразой. Так и протекли мирно и счастливо двенадцать лет нашей жизни в Ковне. Ежегодно: пять месяцев в Ковне и семь месяцев в Колноберже, нашем имении Ковенской губернии. И эти годы мой отец всю свою жизнь вспоминал с самым теплым чувством, как и всех своих сослуживцев, подчиненных и помощников по Сельскохозяйственному Обществу, одинаково как русских, так и поляков.
Училась я дома, сначала с моей матерью и гувернантками, потом с учительницами приходящими к нам на дом и о приходе которых Казимир докладывал:
"Мария Петровна, м-учительница пришла", а потом и с учителями Ковенской гимназии. С третьего класса я стала сдавать при гимназии экзамены, и мои родители с большим вниманием, следили за моими уроками, справляясь ежедневно у учителей о моих успехах и внимании и часто сами присутствовали на уроках. Я училась в комнате рядом с кабинетом папa. Когда он бывал дома, то всегда открывал двери, чтобы слышать урок.
А из арифметических задач, заданных в виде {35} домашних работ, я кажется никогда ни одной не решила без помощи папa. Промучившись целый час над бассейном, наполняющимся через две трубы, одну широкую, другую узкую, или над тем, сколько сделает в данное время поворотов большое колесо и сколько маленькое, идешь с тетрадкой и задачником Малинина и Буренина к папa, зная, что, если только он не занят экстренной работой, то отложит в сторону бумаги или книгу, возьмет твою тетрадь, испачканную десятком неправильных решений, и ласково скажет:
- А ну-ка, давай подумаем вместе.
Иногда сразу же удавалось решить задачу, но бывало и так, что папa решит ее тотчас же в уме, посмотрит ответ - верно, а объяснить мне никак не может:
- Алгебраически я тебе сразу объясню, - говорит папa, а как это делается арифметически, надо подумать.
Я шла готовить другие уроки, а папa, найдя ясное и точное объяснение, звал меня.
А раз было так. Помню, что дело шло о цене коляски и дрожек. Папa, просидел над этой задачей довольно долго, послал меня спать, а утром я нашла на своем столике бумагу, на которой красиво и четко была написана решенная задача, а в конце стояла приписка:
"Остается нерешенным вопрос, где продаются такие дешевые экипажи?".
Должна сознаться, что я всегда честно каялась учителям в том, что задачи решаю не одна. Учителя были все очень хорошие, и уроки всегда интересны, только несчастная математика с Аароновым очень уж приходилась мне не по душе и предмет нелюбимый, мало понятный и сухой, и учитель менее других умеющий внушить любовь к науке. И в гимназии Ааронова тоже не любили и ученики всегда с злорадством представляли, как он задает задачу, а потом, углубившись в нее, говорит:
- Ну, это трудновато, я вам завтра объясню.
{36} На следующем уроке, когда его спрашивали про эту задачу, он говорил:
- Задача неинтересна, возьмемте другую.
Раз мои родители увидали его в театре Народного дома, и когда на следующий день он пришел ко мне на урок, папa спросил его, понравилось ли ему там? На это Ааронов ответил, что представление то хорошее, но публика плоха, и что он там "подвергся оскорблению Товия". Мы так и не поняли, что это значит, и как-то стеснялись показать свою необразованность и спросить объяснения. Долго эта фраза оставалась для нас загадкой, пока, наконец, кто-то из знакомых не сумел объяснить, что Товий, по Библии, был оплеван народом. После этого инцидента бедный наш математик окончательно упал в глазах своих учеников, которые, вместо того, чтобы пожалеть, подняли его на смех.
Но зато другие учителя, особенно преподаватель русской словесности, были очень хороши, и я с удовольствием ждала уроков.
К весне уроки делались труднее, учителя взыскательнее, чувствовалось приближение экзаменов. Но, несмотря на это, училось легче, всё казалось интереснее и значительнее, когда начинало пригревать солнце, позже зажигались лампы, и всё ближе и ближе придвигался день переезда в Колноберже.
А когда Казимир первый раз настежь открывал замазанные на зиму окна, и комнаты вечером вдруг наполнялись торжественным гулом большого соборного колокола и сладким запахом тополей, становилось на душе так светло, что и экзамены не пугали, и вся жизнь представлялась радостным праздником.
Читать дальше