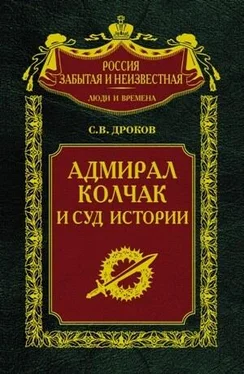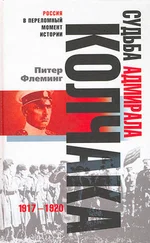В срыве местной организацией коммунистической партии этого плана, уже санкционированного Томским договором 19 января и утвержденного центральной советской властью, ЦК ПСР усматривает новую угрозу территориальной целости России и заявление о возможности уступки правительством народных комиссаров части российских земель Японии. Считать, что намеченная в Томске западная граница буферного государства по р[екам] Ока – Ангара является крайне невыгодной и могла быть санкционирована только при исключительных условиях.
IV. Одобрить отказ краевого комитета взять на себя, согласно распоряжения Сибревкома, организацию государства-буфера, в урезанных границах (зап[адных] границ р[ек] Чикой – Селенга), ибо государственное существование в указанных пределах было бы до крайности затруднительным и подобный буфер не мог бы выполнить задач, для которых он создается, и стал бы простым орудием для прикрытия советской политики и захватнических устремлений Японии […]» [592]
Как известно, события 4–5 апреля 1920 г. во Владивостоке и Николаевске-на-Амуре [593], которые завершились подписанием 29-го числа соглашения между Владивостокским правительством и японцами (первая из двух подписей под этим документом принадлежала одному из бывших членов ЧСК при Политцентре А.Н. Алексеевскому [594]), и подтолкнули центральную советскую власть предпринять шаги навстречу организации государств-буферов, исключив при этом Иркутскую губернию.
Таким образом, местная советская власть Восточной Сибири нуждалась в показательном судебном процессе, чтобы «кукушечьим» приемом подменить собою главных инициаторов разгрома «право-большевистской атамановщины», вскрыть «контрреволюционную» деятельность третьей и четвертой сторон, но так, чтобы не поссориться с временными союзниками центральной советской власти в создании государств-буферов на Дальнем Востоке. Предлогом для реализации этого плана и послужило предварительное следствие над бывшими министрами и их товарищами из правительства Колчака, начатое 7 января 1920 г. членами Политического центра.
Сибирский краевой комитет ПСР рассматривал предварительное следствие как исполнение решения IX Совета ПСР: «…осветить перед лицом как русских трудовых масс, так и Западно-Европейского общественного мнения действительную природу колчаковской власти и ее формы выявления». Как выяснилось, «освещение» было реализовано в 1923 г. публикацией социал-демократом Б.И. Николаевским [595]«протоколов» допросов адмирала А.В. Колчака [596].
«Обособить» Сибирь от общественно-политического движения, развернувшегося на Дальнем Востоке, требовали также следующие факторы: а) безболезненный переход власти в конце января 1920 г. в городах Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Амурской и Сахалинской областях к земским и городским самоуправлениям, под крыло Сибирских краевых комитетов ПСР, партии Народной свободы, крестьянской и социал-демократическим фракциям левых: социалистов-революционеров, социалистов-революционеров интернационалистов, Трудовой народно-социалистической партии; б) объединение земств в краевом масштабе с отказом от классовой борьбы [597]; в) возложение политической ответственности за события 4–5 апреля 1920 г. на провозгласивших себя «вождями масс» местных коммунистов.
Обвинительное заключение «по делу самозваного и мятежного правительства Колчака и их вдохновителей» являлось в большей степени эмоциональным политическим сочинением, нежели судебным документом. Оно обвиняло весь общественный строй, политическую и экономическую системы, сложившиеся к началу 1920 г. в Сибири. Аргументация выдвинутых обвинений для юрисдикции базировалась на источниках третьего порядка: одном из вариантов стенографической записи (не протоколов) допросов А.В. Колчака и на 10 процентах предварительных следственных материалов.
Этот факт был установлен 24 мая 1920 г. на пятом заседании, когда председатель ЧРТ И.П. Павлуновский заявил: «Я удостоверяю, что около 2-х тысяч пудов (документов. – С. Д.) имеется в ящиках, которые не были еще представлены ни защите, ни обвинению». А также А.Г. Гойхбаргом: «Дело в том, что из Иркутска привезено огромное количество всяких документов и бумаг, которые не только защита, но и я в своем распоряжении не имели…» [598]
Три этапа «продажности и измены», сформулированные в качестве конкретных обвинений Верховного правителя, не имеют под собой никаких оснований. Более того, уместна постановка вопроса о преднамеренной фальсификации исторически установленных биографических фактов, дискредитации имени и клевете, бездоказательно порочащих честь и достоинство российского адмирала. Кстати, заключение Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации о «преступлениях против мира и человечности» Верховного правителя России вполне применимо и в отношении инициаторов создания советского государства, узурпировавших власть в октябре 1917 г.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу