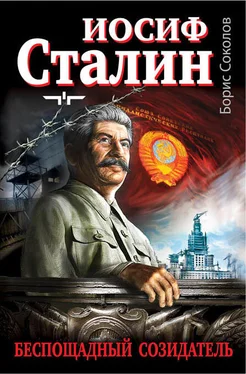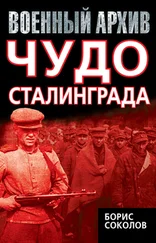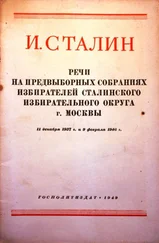Миф великого Ленина, который начал создаваться еще при жизни основоположника большевистской партии, в полной мере использовался Сталиным для возвеличивания собственной персоны. Он неоднократно скромно именовал себя одним из многих учеников великого Ленина. Однако только Иосиф Виссарионович на съездах и пленумах позволял говорить сам о себе в третьем лице. Уже одно это давало понять партийцам, кто есть самый верный и самый главный ленинский ученик. И, в полном соответствии с законами построения мифа, главный злодей Троцкий должен был стремиться извести главного культурного героя Сталина, но неизменно терпел неудачу. Здесь миф отнюдь не расходился с жизнью. Троцкий действительно избрал главной мишенью своей критики Сталина, но совсем не преуспел в борьбе с ним.
Кстати, Троцкий, как и Сталин, неоднократно подчеркивал, что является учеником Ленина, а своих сторонников называл «подлинными марксистами-ленинцами». В статье, посвященной памяти Ленина, он, в частности, писал: «Наши сердца поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все, великой милостью истории, родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него… Как пойдем вперед? – С фонарем ленинизма в руках…»
Троцкому припомнили и его небольшевизм, и острую полемику с Лениным. О последних же ленинских записках, где Ленин во многом солидаризировался с Троцким и остро критиковал Сталина, Иосиф Виссарионович предпочитал не вспоминать. А послушное воле генсека большинство делегатов, естественно, вспоминало только об ошибках Троцкого, Зиновьева и Каменева и их действительных и мнимых разногласиях с Лениным.
В борьбе с троцкистско-зиновьевским блоком задачу Сталина сильно облегчало то обстоятельство, что еще вчера Троцкий, с одной стороны, и Зиновьев и Каменев – с другой, были врагами и объединились, по сути, только по тактическим соображениям – чтобы попытаться сместить Сталина с поста генсека и не допустить установления его диктатуры в партии и в стране. Поэтому Сталину не надо было грешить против истины, подводя на XV партсъезде в декабре 1927 года итоги борьбы с оппозицией: «Известно, что в конце 1924 года Троцкий издал брошюру под названием «Уроки Октября». Известно, что в этой брошюре Троцкий квалифицировал Каменева и Зиновьева как правое, полуменьшевистское крыло нашей партии. Известно, что брошюра Троцкого послужила причиной целой дискуссии в нашей партии. И что же? Прошло всего около года – и Троцкий отказался от своих взглядов, провозгласив, что Зиновьев и Каменев представляют не правое крыло нашей партии, а ее левое, революционное крыло.
Еще пример, уже из области истории зиновьевской группы. Известно, что Зиновьев и Каменев написали целый ворох брошюр против троцкизма. Известно, что еще в 1925 году Зиновьев и Каменев объявили, вместе со всей партией, о несовместимости троцкизма с ленинизмом. Известно, что Зиновьев и Каменев, вместе со всей партией, проводили резолюции как на съездах нашей партии, так и на V конгрессе Коминтерна, о мелкобуржуазном уклоне троцкизма. И что же? Не прошло и года после того, как они отреклись от своих взглядов, отказались от них и провозгласили, что группа Троцкого является подлинно ленинской и революционной группой в составе нашей партии. (Голос: «Взаимная амнистия!») … Не ясно ли из этого, что никому еще в нашей партии не удавалось так легко и свободно отрекаться от своих принципов, как Троцкому, Зиновьеву и Каменеву? (Смех.)».
И тогда же, на XV съезде, Сталин уже наметил программу коллективизации, заявив о необходимости перехода «мелких и распыленных крестьянских хозяйств на крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли… на базе новой, высшей техники». В тот момент Бухарин еще был союзником Сталина, и тот, чтобы успокоить друга и соратника, подчеркнул, что коллективизация должна иметь сугубо добровольный характер: «Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, колхозной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных приемов интенсификации земледелия. Другого выхода нет». И Бухарин поверил. А всего через год другой выход нашелся. К тому времени выяснилось, что «в порядке показа» крестьян завлечь в колхозы невозможно, что большинство из них не желает отдавать в безраздельную собственность государству плоды своего труда в обмен на жалкие подачки в виде трудодней и право обрабатывать себе на пропитание крошечные приусадебные участки. «Научные приемы интенсификации земледелия» не вышли за пределы опытных участков. Тракторов, правда, уже к концу 30-х годов появилось много, но только потому, что тракторные заводы вообще-то предназначались для выпуска танков. Оттого трактора получались громоздкие, тяжелые и не очень приспособленные для работы на земле.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу