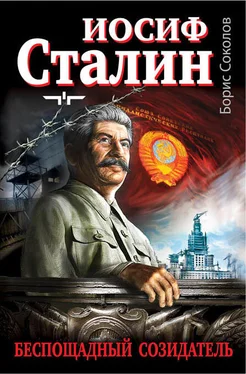Таким образом, существовало два плана совершения террористического акта: один в расчете на приезд Сталина в Нальчик и другой, который предусматривал квартиру Ежовых в Кремле как место, дававшее большие возможности для осуществления террористического акта. Провести исполнителей в Кремль должна была Ежова или Косарев, обладавшие всеми видами нужных для этого пропусков. В случае невозможности совершить террористический акт в Кремле предполагалось перенести его исполнение на дачи, где проживают Сталин и Ворошилов».
По утверждению Бабеля, точный срок совершения теракта не был установлен, «но Ежова в разговоре со мной в конце 1937 года говорила о том, что осуществление террористического акта намечается на лето 1938 года и что срок будет окончательно намечен ею и Косаревым».
«В чем заключалось ваше личное участие в подготовке к осуществлению этих террористических планов?» – задал каверзный вопрос следователь. И не нашел ничего более оригинального, как заставить Бабеля произнести следующее, совсем уж абсурдное: «Ежова в начале 1938 года поручила мне вербовку кадров для террористической работы из литературного молодняка, с которым был я связан». Получалось, что о сугубо секретных планах покушения на товарища Сталина требовалось осведомлять чуть ли не каждого встречного-поперечного: спортсменов общества «Спартак», литературное окружение Бабеля. И это в стране, где чуть ли не каждый десятый – либо официальный стукач, либо добровольный доносчик! Неужели бы Ежов, если бы задумал убить Сталина, не попробовал подобрать исполнителей из числа лично преданных себе профессионалов-чекистов, которым не привыкать было убивать людей?
Бабель продолжал: «Я наметил к вербовке резко антисоветски настроенных участников литературной бригады, с которой я занимался в Гослитиздате».
Чекистам нужны были конкретные имена для будущих дел, поэтому последовал страшный вопрос: «Кого персонально?» И Бабель начал губить молодые души: «Я наметил к вербовке студента института философии и литературы Григория Коновалова и начинающую писательницу Марию Файерович, по мужу Меньшикову, исключенную из комсомола. Я вел с Коноваловым и Файерович антисоветские разговоры, в которых высказывал клевету по адресу партии, говоря о том, что советская литература обречена на прозябание, что выход из создавшегося положения надо искать в решительных мерах, но разговора о конкретных террористических планах и о существовании заговорщической организации я с ними еще не имел. Других заданий по террору от Ежовой я не получал». К счастью, к тому времени волна репрессий пошла на убыль, создавать новый разветвленный террористический заговор следствию стало не с руки, и ни Коновалов, ни Файерович-Меньшикова не пострадали, так же, кстати сказать, как «шпионы» Эренбург, Толстой, Олеша и прочие писатели, названные в показаниях Бабеля, не пострадали.
Подписывая такой протокол, Бабель не мог не сознавать, что жить ему осталось очень недолго. За террористический замысел в отношении вождя полагался расстрел. Хотя фантастичность показаний бросается в глаза. В качестве террористов фигурируют люди давно уже умершие или расстрелянные, никак не способные уличить Бабеля. Никаких выписок из их показаний в его деле нет. А ведь Бабеля не били. Вот тот же Гладун, например, на суде Военной коллегии, отрекаясь от всех прежних показаний, прямо заявил: «Показания даны при физическом принуждении со стороны следователя», что в переводе с бюрократического языка на человеческий означало: Александра Федоровича крепко били. Бабель ничего подобного на суде не заявлял, хотя от показаний на следствии отрекся полностью. Значит, его не били. Просто, будучи вхож к Ежовым, Исаак Эммануилович слишком хорошо знал, какими методами в НКВД развязывает языки и, чтобы избежать побоев, согласился признаться в вымышленных преступлениях. Морально писатель был сломлен, выйти живым из застенка он уже не надеялся. Вот и подписывал все, что нужно следствию.
Бабеля сгубила не только близость к Ежову, но и длинный язык. Эренбург вспоминал, как Бабель убеждал его, что Ежов играет отнюдь не главную роль в репрессиях: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем…» Это же он наверняка говорил и другим друзьям-писателям. И не только писателям. Если дело не в Ежове, то значит – в Сталине. Интимные отношения Бабеля с супругой «железного наркома» для литературно-театральной Москвы были секретом Полишинеля. Поэтому его свидетельство относительно Ежова было особо авторитетным. Сталин же, наоборот, стремился всячески убедить и массы, и интеллигенцию, что «перегибы» в борьбе с «врагами народа» – целиком на совести смещенного Ежова. Полуофициально в народ был пущен термин «ежовщина» для обозначения беззаконий 1937–1938 годов, чтобы они ассоциировались исключительно с Николаем Ивановичем, а не с Иосифом Виссарионовичем. Бабель же эту стройную картину доброго царя Сталина и лихого боярина Ежова начисто разрушал. К тому же Исаак Эммануилович якобы знал какие-то тайны о членах Политбюро и самом Сталине. Может, просто бахвалился, а может, Евгения Соломоновна действительно сообщила ему что-то совсем запретное. В общем, оставлять в живых Бабеля было слишком опасно. А по каким статьям привлечь – это дело техники. Тут и шпионаж со знакомыми иностранцами, Мальро и Штайнером, тут и вечно живая троцкистская тема, тут и террористический заговор с участием уже умершей Ежовой, уже расстрелянного Косарева и еще живого, но уже готовящегося перейти в разряд мертвых Ежова. Но последнее совсем не значит, что Бабеля, Мейерхольда или Кольцова арестовали потому, что надо было пристегнуть фигурантов в дело Ежова. Нет, если бы потребовалось, дело против Николая Ивановича легко соорудили с участием одних только его бывших подчиненных – чекистов. Но Сталин решил, что, как опасных свидетелей, надо убрать не только чекистов – соратников Ежова, но и близких к нему лиц из числа творческой интеллигенции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу