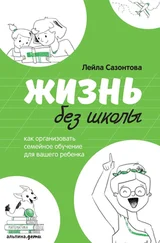На первый взгляд, перед нами два совершенно разных взгляда на школьный класс. В первом случае учителя радует пробудившаяся детская любознательность, во втором — теплые чувства вызывает порядок в классе и уважение со стороны учащихся. Если же присмотреться внимательнее, эти два подхода объединяет понимание важности базового уровня знаний, к которым ученики приобщаются благодаря профессионализму педагога. Головин не подталкивает учащихся к поиску альтернативных концепций или дополнительных источников информации, возможно, идущих вразрез с его рассказом. Наоборот, он побуждает учеников к поиску в русле прошедшего урока, по сути, к расширению круга уже полученных знаний, что исключает любые попытки свернуть на альтернативные пути. Во втором случае — удобное расположение парт со свободным проходом между ними, учитель, который осознает свой авторитет в классе благодаря своему интеллекту и уважительному отношению к детям, и в этой динамике выстраивается иерархия отношений, где главную роль играет учитель.
Оба учителя вели уроки, соблюдая принципы и следуя политике сталинизма, однако их роднит понимание целей и приверженность традициям педагогики. Как и в случаях с Виноградовым, Самариным и другими «передовыми просвещенцами», о которых шла речь ранее, еще раз подтверждается важность эрудиции и авторитета учителя как для практической работы, так и для его самооценки. Процесс обучения и обретения знаний определялся не столько предписанными режимом программами и методиками, он обусловливался конструктивным взаимодействием учителя и учеников. В заключительном разделе этой главы мы обсудим понимание учителями своей роли и роли учащихся, что даст нам возможность понять, как они оценивали сталинскую школу 1930-х гг.
«С видом таинственным, открывающим необычайное…»
В начале марта 1953 г., сразу после освобождения из лагеря, бывший учитель математики, фронтовой офицер, Солженицын попросился на работу учителем в глухую казахстанскую деревню, в месте его ссылки. По его воспоминаниям, возвращение в класс воспринималось им как избавление от бесчеловечного террора сталинских репрессий:
«Преподавать! — снова почувствовать себя человеком! Стремительно войти в класс и огненно обежать ребячьи лица! Палец, протянутый к чертежу, — и все не дышат! Разгадка дополнительного построения — и все вздыхают освобождение».
Заявление Солженицына поставило местное роно перед дилеммой. Университетский диплом и преподавательский стаж давали ему преимущества перед местными учителями, но «трусливые чиновники», как презрительно назвал их Солженицын, не решились дать шанс бывшему зэку и отказали ему в просьбе. Однако когда через несколько дней умер Сталин, Солженицына тут же позвали преподавать математику и физику в сельской средней школе. И снова в его воспоминаниях говорится, что «счастье — войти в класс и взять мел» после насильственной десятилетней изоляции от любых нормальных человеческих отношений и работы мысли:
«Когда я был в Экибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступный я озирался на беготню ребятишек в ее дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изныл я от беспросветных тюремных лет, от лагерных общих! Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось: вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок» {496} 496 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 3. С. 375, 382-383.
.
Речь здесь идет об эмоциях 1953 г., но и школьную атмосферу 1930-х гг. этот пример иллюстрирует хорошо. Вместе с миллионами учеников и сотнями тысяч учителей Солженицын провел предвоенное десятилетие в классе — в коллективе, где шло его воспитание на крутом повороте истории, когда менялась жизнь каждого человека. По доминантам солженицынских воспоминаний: жажда общения с детьми, неповторимая аура класса, авторитет учителя, отточенность и даже магия каждого его слова — можно судить о том, как формировала и пленяла человека школа. Преподавание сохранилось в памяти Солженицына как своеобразная форма власти — с бурями эмоций и поразительным интеллектуальным подъемом {497} 497 О привлекательных сторонах и сложностях работы зрителя см.: Rousmaniere К. City Teachers. P. 128-131.
.
В конечном итоге, преподавание, по Солженицыну, весьма консервативно. В своих воспоминаниях он страстно желает повелевать учениками, распоряжаться знаниями и держать под полным контролем весь процесс обучения. Вполне в духе реформ ЦК партии после 1931 г., отводивших ключевую роль учителю, Солженицыну педагог видится «открывающим необычайное», то есть преподаванию непременно сопутствует иерархия статусов, возрастов и знаний, а выстраивает и укрепляет ее все бытие школьного класса.
Читать дальше
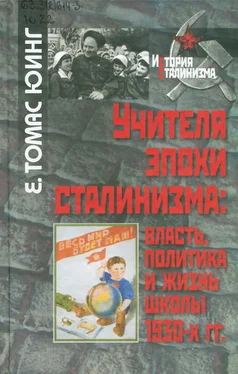






![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)