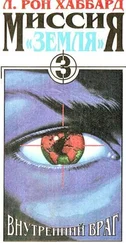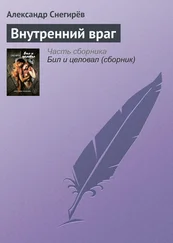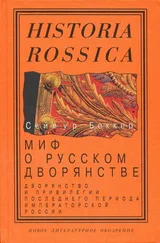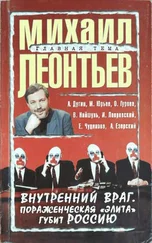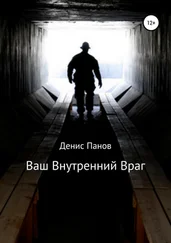Следующие несколько часов Мясоедов жил надеждой на помилование. Он строчил телеграммы своей дочери Музе и матери, требуя, чтобы они от его имени подали прошение. «Я осужден полевым судом, — писал он дочери. — Клянусь, что невиновен. Умоляй Сухомлиновых [военного министра и его супругу. — У.Ф .] спасти. Просите Государя Императора помиловать» 3. Однако время шло, и горячечные надежды сменились беспросветным отчаяньем.
В полночь Мясоедова в камере посетил православный священник отец В.В. Кристанер. Мясоедов попросил вывести его в туалет. Капитан Д.М. Еремев отпер дверь камеры и сопроводил осужденного в ватерклозет, находившийся в коридоре. Мясоедов захлопнул за собой дверь и закрыл ее на задвижку. Через несколько минут вдруг услышали его крик: «Сейчас! Сейчас!» Еремев поднял тревогу, дверь взломали. Мясоедов полулежал у стены, кровь текла по манишке — он разбил стекла пенсне и трижды резанул себя по горлу. Не вмешайся Еремев, острие дошло бы до сонной артерии.
Мясоедова водворили обратно в камеру, первую помощь ему оказал доктор М.Д. Войцеховский. Когда порезы были перевязаны, Мясоедов попросил снова позвать священника. Отец Кристанер выслушал его последнюю исповедь и причастил узника. Едва кончился обряд, в камеру вошло несколько конвойных, Мясоедова подняли, протащили по коридору и вывели к виселице, установленной на гласисе за внутренней стеной цитадели 4. В 3 часа 13 минут утра на его шею набросили петлю 5. Виселица была низкая — едва три с половиной метра высотой и без ската; говорили, что Мясоедов четверть часа дергался в петле, прежде чем умер 6. Когда все кончилось, тело сняли, завернули в рогожу и погрузили в военный грузовик. Труп вывезли за черту города и похоронили в безымянной могиле.
Последствием этой варварской казни была захлестнувшая Российскую империю шпиономания. Повальные аресты, сотни обысканных квартир, тысячи страниц конфискованных документов.
Среди задержанных в первые дни арестов были жена Мясоедова (к тому времени не жившая с ним вместе), его зять, любовница, коллеги по службе, даже несколько случайных знакомых, включая хозяина магазина, который когда-то одолжил Мясоедову пишущую машинку, и директора станционного буфета, куда захаживал осужденный 7. К двадцатым числам апреля 1915 года по делу проходило уже тридцать обвиняемых; готовились новые аресты 8.
Поздней весной 1915 года германские и австро-венгерские войска прорвали оборону российских войск между Горлице и Тарнувом, вынудив русскую армию отступить в глубь страны более чем на триста километров. Стабилизации фронта удалось добиться только к концу года, потери составили убитыми сто пятьдесят тысяч, семьсот тысяч ранеными, более трехсот тысяч попали в плен 9. Наступление немцев на севере докатилось до ворот Риги, а на юге до пригородов Тарнополя. В стране было почти два миллиона беженцев из числа гражданского населения. Вся российская часть Польши и практически вся Литва были оккупированы Германией. Призывы разобраться с «предателями», на которых возлагалась вина за Великое отступление, породили вторую волну арестов по делу Мясоедова в конце 1915 — начале 1916 года. К этому времени отзвук казни Мясоедова докатился до высших политических кругов Российской империи. 20 апреля 1916 года был бесцеремонно арестован и препровожден в Петропавловскую крепость генерал В. А. Сухомлинов, занимавший пост военного министра с 1909 до весны 1915 года. Ему предъявили обвинение в бездействии, должностных преступлениях и государственной измене. Среди вменявшихся ему в вину «преступлений» были личные отношения с Мясоедовым. Выпущенный в октябре 1916 года по приказу Николая II под домашний арест, Сухомлинов был вновь заключен в тюрьму после Февральской революции 1917 года. Его судило Временное правительство и в сентябре 1917 года приговорило к пожизненной каторге.
В то время некоторые военные круги — и далеко не только либеральные — возлагали ответственность за катастрофические поражения, понесенные Россией с августа 1914 года, прежде всего на якобы раскрытую в связи с делом Мясоедова разветвленную шпионскую сеть, организованную Германией задолго до начала Первой мировой войны. Даже много лет спустя находились люди, по-прежнему убежденные, что военные неудачи России были вызваны изменническими связями Мясоедова с противником — от сокрушительного поражения при Танненберге в августе 1914 года до гибели 20-го корпуса в феврале 1915 года 10. МД. Бонч-Бруевич, генерал царской армии, впоследствии служивший в генеральском звании и при советской власти, в опубликованных в 1956 году мемуарах заявлял о виновности Мясоедова и похвалялся собственным участием в раскрытии заговора 11. Что касается представителей противоположного политического лагеря, то Антон Деникин, один из виднейших военачальников Белого движения, был безоговорочно уверен в том, что Мясоедов был шпионом 12.
Читать дальше