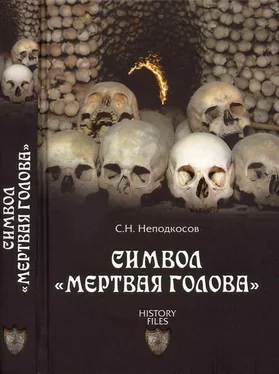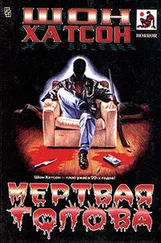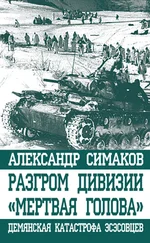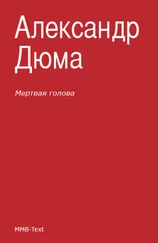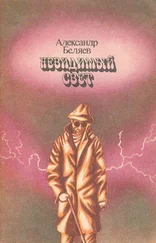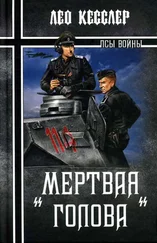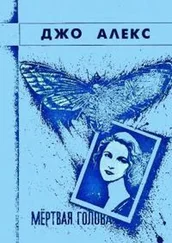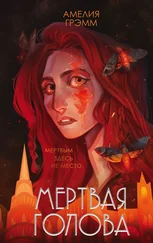Кельты были уверены, что человеческая голова — вместилище души, суть бытия. Она символизировала само божество и обладала всеми желаемыми качествами: могла быть живой после смерти тела, отвращать зло и пророчествовать, двигаться, действовать, говорить, петь, рассказывать истории и развлекать и даже возглавлять пир в потустороннем мире. В одних случаях ее использовали как символ какого-то отдельного божества или культа, в других она символически выражала религиозные чувства вообще.
Знаменитый валлийский герой Бран Благословленный, раненный в битве, сам попросил друзей отрубить ему голову и отвезти ее на родину. На обратном пути голова ела, пила и разговаривала {110} 110 Медникова М. Трепанации в древнем мире и культ го ловы. М., 2004. С. 145.
.
Из камня и дерева изготовлялись сотни голов. В латенском искусстве человеческая голова или маска встречается как постоянный мотив, и здесь, как и в позднейших каменных изображениях, можно отличить разнообразные атрибуты культа, в том числе рога, короны из листьев или группы из нескольких голов. Эти головы, несомненно, наделялись магическими силами, отражающими зло.
Знаменитые ландшафтные объекты горного Крыма — Долина Привидений на юго-западном склоне горы Южная Демерджи и Бинбаш-Коба (Тысячеголовая пещера Чатыр-Дага) — можно определить как «природные» или «естественные храмы», воплощение архетипа культового сооружения. Согласно легенде этиологического характера, пещера некогда использовалась обитателями Крымских гор в качестве могильника или святилища особого типа {111} 111 Таран Г. Легенды Крыма. Симферополь, 1967. С. 73—75.
.
Описывая интерьер Бинбаш-Кобы, автор «Очерков Крыма» Е. Марков в 70-х годах XIX в. сообщал следующее: «На полу между каменными сидениями насыпаны страшною грудою человеческие черепа. Желтые, как репа, с черными дырьями вместо глаз, оскаленными рядами зубов, покрытые землею и плесенью, лежат эти черепа в своем великолепном склепе. Они лежат без счета и призора, как кавуны на базаре». И далее: «…начинаешь невольно мечтать об элефантинских подземельях, о храмах кровавой богини Бохвани, требующей себе в жертву смерти и одной смерти…» {112} 112 Марков Е. Очерки Крыма: Картины крымской жизни, истории и природы. Изд. 2. СПб., М., 1902. Репринт. Киев, 2006. С. 212.
Описание ясно указывает на большое количество черепов, которые «насыпаны грудою», что свидетельствует об особом внимании к ним на некотором этапе погребального ритуала. Они были отделены от туловища или до погребения, или впоследствии, во время подзахоронений, и размещены в пещере компактными группами согласно определенным культовым требованиям. Возможно, груды или, скорее, пирамиды из черепов составляли своеобразный магический комплекс с центральной фигурой зала — сталагмитом фаллических очертаний.
Единственный уцелевший от разграблений могильник тавров Мал Муз в Байдарской долине позволяет утверждать, что каждый каменный ящик использовался для многократных погребений. Умерших укладывали в скорченном положении на боку до тех пор, пока склеп не заполнялся человеческими останками. Тогда его очищали от костей, оставляя лишь черепа, и продолжали хоронить. В одном из таких погребений обнаружено 68 черепов. Вероятно, каждое погребальное сооружение служило родовой или семейной усыпальницей.
Вместе с погребенными хоронили различные вещи: оружие (мечи, кинжалы, стрелы) и конскую сбрую скифских типов, многочисленные бронзовые украшения (кольца, браслеты, височные подвески, гривны, бляшки, серьги), бусы, раковины каури. Все могильники датируются в пределах VI—V вв. до н.э. {113} 113 Храпунов И. Очерки этнической истории Крыма в раннем железном веке. Тавры. Скифы. Сарматы. Симферополь: Таврия, 1995. С. 83.
В XIX в., после работы Константина Горощенко, исследовавшего черепа из первых раскопок в Минусинской котловине, прочно утвердилось представление об особом типе посмертных трепанаций как необходимом элементе обрядов погребения, распространенных на рубеже нашей эры среди носителей так называемой татарской культуры {114} 114 Медникова М. Трепанации в древнем мире и культ го ловы. М., 2004. С. 148.
.
Дело в том, что среди трепанированных черепов несколько штук оказались обделанными глиной. Три образца поверх сохранившегося на них кое-где слоя глины имели следы слоя гипса. Трепанированных черепов со следами исключительно гипсовой маски обнаружено не было. Таким образом трепанированные черепа служили иногда объектом обряда масок и при этом не чистого обряда, а его вариации, описание которой привело бы нас к следующему выводу: черепа, подвергавшиеся отделке глиняной маской, должны были предварительно потерять от процесса гниения мускулы и другие покровы.
Читать дальше