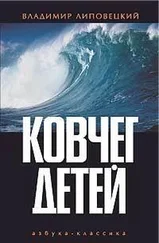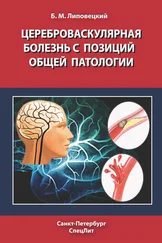В отличие от stand-up comedy спектакли Гришковца не обязательно комедийны и никогда не сатиричны, хотя и непременно вызывают смех. В русско-советской stand-up comedy, особенно у Жванецкого, многие тексты написаны как монологи персонажей, отдельных от авторов, персонажей со своей речевой характеристикой, комическим идеолектом, социальным статусом и т. п. Ничего подобного нет у Гришковца — более того, когда он пишет «нормальные» пьесы, с диалогами, персонажами и т. п. (например, «Записки русского путешественника», «Город» или «Зима»), все его персонажи говорят одинаково неразличимо: «как Гришковец» (что, безусловно, подрывает их художественную самодостаточность).
Свой первый — и по сей день лучший — спектакль «Как я съел собаку» Гришковец начинает словами:
Этот спектакль — это часть моей биографии… Но я вернусь сюда, и это буду не я, а персонаж этого спектакля. Сколько бы я ни играл этот спектакль, остается большой вопрос внутри спектакля: где я, а где персонаж?.. Фактически это буду я, там (за сценой) никого не останется… За то время, что я играю этот спектакль, персонаж не изменился, а я изменился. И я точно могу сказать, что персонаж лучше меня… Во время спектакля меня здесь (на сцене) не будет. Будет персонаж. Я вернусь по окончании спектакля кланяться. Это уже буду я.
Марина Давыдова писала об этой черте театра Гришковца: «Главная задача, которую пытается разрешить Гришковец, — уловить это самое неуловимое „я“» [5]. В том же видит цель театра Гришковца и Дмитрий Быков: «Просто чтобы после всех пертурбаций восьмидесятых — девяностых годов выстроить себе картину мира и разобраться, во что, собственно, превратилось загадочное Я» [6].
Но, как мы увидим ниже, «неуловимое Я» так и остается у Гришковца неуловимым, а картина мира так и не выстраивается — и именно эти неуловимость и невыстраиваемость и становятся центральными мотивами его театра. Драматургия и театральный язык Гришковца приобрели культурную значимость именно как попытка непосредственно понять и прочувствовать тот глобальный кризис идентичности , который стал содержанием (и результатом) всей постсоветской эпохи. Именно неустойчивость, неявность, неприкаянность идентичности автора и его персонажа и раскрываются Гришковцом во всех его спектаклях. Вот почему колеблющаяся дистанция между «я» и «не я» так принципиальна для его эстетики. Потому-то категории «самовыражения» или «искренности» существуют в театре Гришковца не как данности, а как проблемы: если самовыражение, то кого, какого Я? Если искренность, то чья? Искренность и самовыражение, таким образом, оказываются floating signifiers — их означаемое и составляет главную проблему театра Гришковца, его, если угодно, «пустой центр».
Персонаж — зрители. Другой важнейший эффект, вызываемый театром Гришковца, — это эффект узнавания. Зритель Гришковца должен совпасть с персонажем, мысленно воскликнув: как это точно! я сам хорошо это помню! Причем для Гришковца этот эффект не менее принципиален, чем иллюзия искренности. Не случайно, по собственному признанию, выступая за границей, он, как правило, два дня работает с переводчиком, заменяя детали в своем тексте на такие, которые вызовут эффект узнавания у местного зрителя: скажем, снег заменяется на мокрые скользкие листья, потому что для бельгийского зрителя зимнее утро, когда так не хочется идти в школу, ассоциируется именно с листьями, а не со снегом.
Но узнавание это парадоксально. Потому что личный и индивидуальный опыт претворяется в предельно обобщенный, почти что безличный. Гришковец настаивает на принципиальной редукции собственного опыта: «Ведь если я буду рассказывать подлинные истории, то придется высказывать мнения. А я не высказываю мнений» [7]. Отсюда оксюморонные характеристики «типичности» персонажа Гришковца, предлагаемые критиками: «Он сумел слиться с каждым из зрителей и в то же время остаться самим собой. Передать на сцене поэзию обыденности. Воплотить неповторимую типичность » [8];
он, кажется, ценит в себе не художника, не артиста, а прежде всего типичного представителя — того самого, о котором наш театр в последнее время забыл. Голый человек на голой земле, на пустой сцене (в «ОдноврЕмЕнно» эта метафора наготы буквализуется), растерянный, не знающий, что делать со своим новым опытом, и делящийся этим опытом с беззащитностью случайного собеседника, — вот сценический образ, с которым автор монолога «Как я съел собаку» вошел в сознание зрителя и читателя. И этот образ идеально совпал с самоощущением большей части аудитории… [9]
Читать дальше