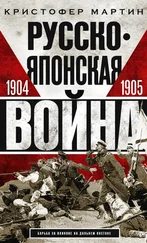Японский официальный источник говорит:
«Неприятель в кильватерной колонне: «Россия», «Громобой» и «Рюрик» шел курсом зюйд- зюйд-вест. «Такао», крейсеруя в виду их, старался завлечь их в пределы обстрела береговых батарей; но, когда в 4 часа дня он соединился с «Мусаши», неприятель находился уже на SOtS в 6 милях и шел полным ходом в выход из пролива».
И далее:
«Русские вошли в пролив около 11 часов утра; шли против течения и вышли из пролива в 7 часов вечера – за это время видели наши суда «Такао», «Мусаши» и миноносцы, но, ожидая быть может встретить в Японском море нашу эскадру, не хотели попусту расходовать снаряды». [243]
Вторичный прорыв так же, как и первый, не вызвал со стороны Владивостокского отряда ни одного выстрела. Это казалось неожиданным и невероятным. Камимуры у выхода из пролива в Японское море не оказалось.
Оставалось скорее воспользоваться этим для возвращения в свою базу.
Вечером следующего дня, когда стемнело, корабли отряда производили испытания принятых перед походом осветительных ракет, что вряд ли было уместно, в то время когда не исключалась возможность встречи с японской эскадрой в невыгодных для себя условиях.
Ночью на пути к мысу Поворотному, на параллельном курсе был «обнаружен пароход, внезапно открывший отличительные огни. Оказалось, что это немецкий пароход с углем для Владивостока.
Как обычное в июле явление, приближение к Владивостоку не обошлось без еще одной встречи с густым туманом, и только в 16 часов 1 августа отряд ошвартовился на бочках в Золотом Роге.
Июльское 16-суточное крейсерство обошлось «без потерь в людях, а равно без одной человеческой жертвы на уничтоженных или взятых призах».
Крейсерами пройдено 3078 миль, расход топлива на «России» – 2133 т, на «Громобое»- 2150 т. Угольные ямы этого крейсера были близки к их полному опустошению.
Иностранные источники о действиях эскадры Камимуры и оценка ими крейсерских операций русских. Японские источники умалчивают о действиях каких-либо других японских соединений флота, кроме действий отряда обороны Цугарского пролива, о которых изложено выше.
Не конкретные данные, а лишь общие рассуждения о причинах бездействия Камимуры приводит и английский официальный источник. Автор его оправдывает японского адмирала теми трудностями, перед которыми он был поставлен.
Появление русских крейсеров у Токио, говорит он, могло заставить адмирала Камимуру отвлечься от занимаемой им позиции и, таким образом, позволить адмиралу Иессену осуществить соединение с Порт-Артурской эскадрой в Желтом море. До тех пор, пока эта возможность существовала, Камимура не решался уходить далеко на восток.
Если же, говорит этот автор, крейсерство отряда Иессена было скорее набегом на японскую торговлю и пути сообщения, как это на самом деле и было, обстановка, не позволила бы ему без конца мешать внешнему судоходству иначе, как путем самоснабжения углем с захваченных судов.
Несомненно так же, что вопрос о помехе Иессену был в высшей степени осложнен гораздо более важными событиями, имевшими место под Порт-Артуром. Армия Ноги быстро приближалась к веркам Артурской крепости и было более чем вероятно, что из-за усиления опасности с суши русская Порт-Артурская эскадра попытается прорваться во Владивосток.
Поэтому ясно, что для японского адмирала было гораздо разумнее оставаться в телеграфной связи с адмиралом Того, сохраняя готовность к тому, чтобы: 1) не допустить соединения обеих русских эскадр и 2) обеспечить от возможного нападения войсковые транспорты, идущие из западных портов Японии, а не гоняться за Владивостокским отрядом по Тихому океану с тем, чтобы предотвратить захват нескольких торговых судов.
Линия поведения адмирала Камимуры, по мнению английского автора, особенно интересна в том отношении, что материальный ущерб, нанесенный русскими крейсерами во время июльского крейсерства, был очень мал, несмотря на то, что действия их вовсе не были стеснены неприятелем.
Через несколько часов по появлении русских в проливе Цугару, были задержаны все суда, готовые к выходу из портов восточного побережья Японии и все, что смог захватить русский отряд,-это были лишь пароходы, идущие с моря в японские гавани.
Тем не менее, считает английский автор, более длительное пребывание русских судов перед Токийским заливом, где они могли останавливать или уничтожать японские суда в пределах видимости с японских берегов, было бы таким «ножом острым» для национального достоинства японцев, что оставаться там русским, очевидно, не позволили бы. [244]
Читать дальше
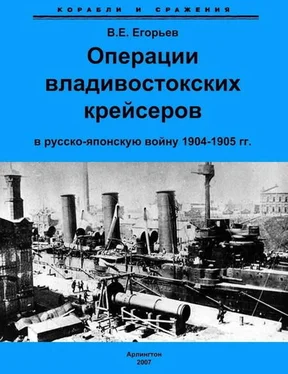




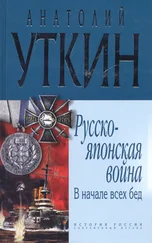


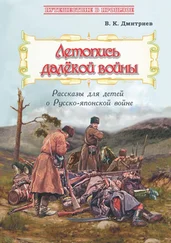
![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)