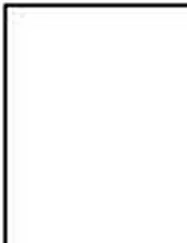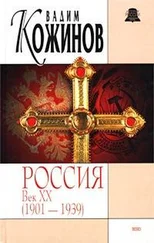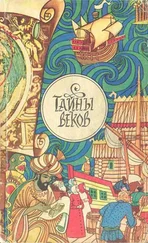Тоталитарные режимы стремились "в идеале" к полному растворению отдельной человеческой личности в контролируемом и структурированном "целом" - государстве, партии или (в фашистско-нацистском варианте) нации. Итальянские фашисты заявляли, что признают индивида лишь постольку, "поскольку он совпадает с государством, представляющим универсальное сознание и волю человека в его историческом существовании", "высшую и самую мощную форму личности". Германские нацисты провозглашали: "Общая польза выше личной пользы". Все это - наряду с социал-дарвинистским пониманием жизни как активной агрессии и борьбы за существование - служило в фашизме и нацизме обоснованием для национализма, который, в свою очередь, мог толковаться по-разному. Так, у итальянских фашистов нация была носителем "неизменного сознания и духа" государства, сплоченным на основе "общей воли" и "общего сознания". Немецкие нацисты, напротив, вели речь о "расово-биологических факторах", о "народном сообществе людей немецкой крови и немецкого духа в сильном, свободном государстве". Они провозглашали и осуществляли крайний расизм, объявив уничтожение "расово неполноценных" народов и индивидов залогом благосостояния "своей нации". Сталинская диктатура формально выступала за "пролетарский интернационализм", но в действительности практиковала национализм под предлогом верности своему "социалистическому государству" ("социалистического патриотизма). Грань между "государственническим" и "этническим" национализмом оказывалась в ХХ веке очень зыбка, и сталинизм в 40-х -50-х гг. (в связи со Второй мировой войной и последующей "холодной войной" с западными державами) стал все больше обращаться к великорусскому шовинизму. При сталинском тоталитаризме точно так же, как при фашизме и нацизме, отрицалась ценность отдельной человеческой личности. Человек воспринимался как "колесико и винтик" советского государства - носителя разума и коллективного опыта. Официально провозглашалась "народность" режима и "социальное равенство", но по существу сталинская система была не менее антиэгалитарной по духу, чем фашизм, декларировавший "неизбежность, благотворность и благодетельность" неравенства. И в фашизме, и в сталинизме "народ" считался неспособным к самодеятельности, склонным к "коллективной безответственности" и эгоизму, к непониманию своих "подлинных" (национальных или исторических) интересов, а потому выражать эти интересы должна была тоталитарно руководящая партия.
Тоталитарные режимы и обосновывавшие их идеологии отрицали самоценность человеческой свободы. Как наци-фашизм, так и сталинизм исходили из того, что существуют свободы "подлинные", "существенные" и свободы "бесполезные, вредные" или мнимые. В фашистской идеологии к первым относились возможность беспрепятственной борьбы за существование, агрессия и частная экономическая инициатива, при сталинском режиме - право пользования социальными гарантиями, предоставляемыми государством. Напротив, индивидуальные свободы и права человека отвергались как продукт либерального вырождения (в теориях фашистов) или - вслед за Лениным - как фальшивый "буржуазный предрассудок" (при сталинизме). В то же самое время, тоталитарные режимы стремились опереться на стимулируемую ими самими активность масс, индоктринированных господствующей идеологией, на дирижируемое сверху массовое движение. Эту своеобразную "обратную связь" между режимом и массами, выходящую далеко за рамки простой пассивной покорности "низов" авторитарной диктатуре и придающую тоталитарным структурам особую прочность, не случайно считают одной из основных отличительных черт тоталитаризма. Идеологи режимов объявляли ее подлинной ("организованной" у фашистов или "реальной" и "народной" у сталинистов) демократией, не нуждающейся (или не обязательно нуждающейся) в закреплении посредством формальных голосований или волеизъявлений, поскольку партия и вождь по определении сосредотачивают в себе высший интерес народа и истину. При посредстве разветвленной сети корпоративных, воспитательных, социальных учреждений, массовых собраний, торжеств и шествий партии-государства стремились преобразовать самую сущность человека, дисциплинировать его, захватить и полностью контролировать его дух, сердце, волю и разум, формировать его сознание, характер, воздействовать на его желания и поведение. Унифицированные пресса, радио, кино, спорт, искусство целиком ставились на службу официальной пропаганды, призванной "поднимать" и мобилизовывать массы на решение очередной задачи, определенной "наверху".
Читать дальше