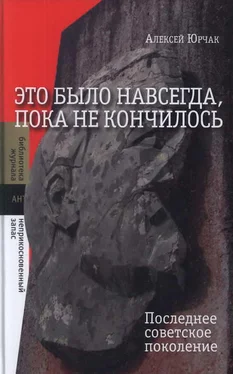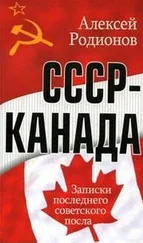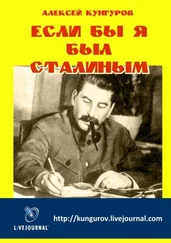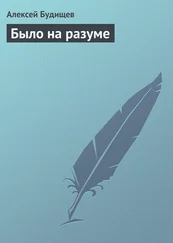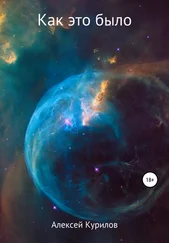Одним из мотивов написания этой книги стало желание оспорить некоторые проблематичные постулаты о природе советского социализма, которые часто воспроизводятся в академических и журналистских текстах как на Западе, так и в России. Эти постулаты сводятся к следующему: идея социализма была якобы не только ошибочна, но и безнравственна; именно так (как ошибочную и безнравственную) якобы воспринимало советскую систему до начала перестройки большинство советских людей; крушение советской системы было якобы предопределено именно этим отрицательным отношением к ней советских людей. Эти проблематичные постулаты не обязательно формулируются в явном виде. Чаще они присутствуют подспудно — например, в языке и терминологии, которые используются для описания разных аспектов советской жизни. Примером служит широко распространенное словосочетание «советский режим», которое, хотя и используется в качестве синонима таких терминов, как советское государство, советская история или социализм, часто несет гораздо более отрицательный оттенок, чем эти термины, подспудно сводя советскую реальность к проявлению государственного насилия [16]. Другим распространенным примером является постоянное использование бинарных оппозиций для описания советской действительности, таких как подавление — сопротивление, свобода — несвобода, правда — ложь, официальная культура — контркультура, официальная экономика — вторая экономика, тоталитарный язык — контр-язык, публичная субъектность — частная субъектность [17], конформизм — нонконформизм, реальное поведение — притворство, истинное лицо — маска и так далее. Эта терминология всегда использовалась и продолжает использоваться сегодня при описании советского существования и советского субъекта в западной историографии, политических и социальных науках, прессе и массовой культуре. С начала 1990-х годов эта терминология активно использовалась в России и других странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы для ретроспективного описания социализма.
В крайних примерах такого описания советский субъект, часто с пренебрежением именуемый Homo Sovieticus, предстает человеком, у которого отсутствует личная воля. Участие этого субъекта в советской системе преподносится как доказательство того, что он либо поддался на угрозы или соблазны карьерного благополучия, либо потерял способность критически мыслить. Например, в конце 1980-х годов французский социолингвист Франсуаз Том утверждала, что в контексте всепроникающего советского идеологического языка лингвистические «символы перестают действовать должным образом», а значит, мир советского субъекта — это «мир без смысла, без событий и без человечности» (Thom 1989: 156). Десятью годами позже, в конце 1990-х, Франк Эллис повторил эту идею еще надменнее:
Если разум, здравый смысл и порядочность слишком часто подвергаются надругательству, человеческая личность калечится, а человеческий разум распадается или искажается. Граница между правдой и ложью фактически стирается….Воспитываясь в подобной атмосфере, испытывая страх и будучи лишенным какой-либо интеллектуальной инициативы, Homo Sovieticus попросту не мог быть ничем иным, чем рупором партийных идей и лозунгов. Это был не столько человек, сколько контейнер, который опорожнялся или заполнялся в зависимости от требований партийной политики (Ellis 1998: 208).
Даже если в подобных описаниях и допускается, что у советского субъекта могла иметься собственная воля, голос этого субъекта все равно во внимание не принимается, поскольку из-за притеснений и страха этот голос якобы не может считаться истинным. По мнению политолога Джона Янга, единственным советским субъектом, способным иметь собственный голос, являлся нонконформист-диссидент, который занимался тем, что «противопоставлял реальные факты официальной фальши», делая это в общении «за закрытыми дверьми с такими же разочарованными друзьями, пользуясь языком знаков, придуманным из опасений, что квартиру прослушивают спецслужбы, и передавая из рук в руки неразрешенные рукописи или кассетные звукозаписи» (Young 1991: 226).
Приведенные примеры можно рассматривать как крайность. Однако в них отражается общая тенденция того, как описываются советский субъект и советская реальность. В основе этого подхода лежит невероятно упрощенная, бинарная модель власти, согласно которой власть может функционировать только двумя способами — либо убеждением, либо принуждением {13} . Эта упрощенная модель власти доминирует и в исследованиях социализма, появившихся в бывшем Советском Союзе после его развала. В них почти всегда советская культура делится по принципу бинарных оппозиций на официальную и неофициальную, «конформистскую» и «нонконформистскую», «официоз» и «андеграунд» [18]. Корни такого разделения, как отмечают социологи Уварова и Рогов, уходят в особую идеологию диссидентских кругов 1970-х, согласно которой «в советском журнале в принципе не может быть напечатано ничего хорошего, настоящий текст может быть только в сам- или тамиздате…» {14} . Критикуя это бинарное разделение, Уварова и Рогов предлагают вместо него говорить о «подцензурной» и «неподцензурной» культуре, тем самым подчеркивая амбивалентность советского культурного процесса, в котором разделение шло не по признаку принадлежности или непринадлежности государству, а по признаку контролируемости или неконтролируемости — например, среди неподцензурных явлений культуры были и официальные, и неофициальные, и то же самое могло быть в сфере подцензурного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу